За свою жизнь Джордж не впервые оказывался свидетелем подобных событий, и эти приметы были ему хорошо знакомы. К примеру, кто-то спрыгнул или упал из окна высокого здания на мостовую, кого-то застрелили или сшибла автомашина, и вот он лежит и тихо умирает на глазах у прохожих — и толпа при этом выглядит всегда одинаково. Еще прежде, чем увидишь лица людей, по тому, как они стоят, по их спинам, по наклону головы и плеч понимаешь, что произошло. Точные обстоятельства тебе, разумеется, неизвестны, но заключительный акт трагедии ощутишь мгновенно. Сразу поймешь: только что кто-то умер или умирает. И по ужасающе красноречивым спинам и плечам, по алчному молчанию зрителей ощутишь к тому же другую, еще более глубокую трагедию. Это трагедия людской жестокости и сладострастного любования чужой болью — трагическая слабость, которая развращает человека, которую он ненавидит в себе, но от которой не в силах излечиться. Ребенком Джордж видел ее на лицах мужчин, что стояли под окном убогого похоронного бюро и глядели на окровавленное, изрешеченное пулями тело негра, которого прикончили судом Линча. Четырнадцатилетним мальчишкой он опять видел ее однажды на лицах мужчин и женщин во время танцев, когда один из мужчин в драке убил другого.
И вот опять. Когда он и его спутники торопливо шли вдоль вагона и он увидел столпившихся в коридоре людей, по тому, как они алчно застыли, как ждали, вглядывались в страшном молчании, точно околдованные, он понял, что снова увидит смерть.
Это прежде всего пришло ему в голову: кто-то умер, — и об этом же, не сговариваясь, мгновенно подумали Адамовский и маленькая блондинка. Но когда они хотели подняться в вагон, всех их вдруг пронзила, ужаснула, пригвоздила к месту та же мысль — что трагедия, какова бы она ни была, разыгралась именно в их купе. Шторы были опущены, дверь закрыта и заперта, никакого доступа внутрь. Они застыли на перроне и молча смотрели. Потом увидели у окна в коридоре молодого спутника блондинки. Он поспешно, украдкой подал им знак не подходить ближе. И тут всех троих осенило: несомненно, жертвой рока стал маленький беспокойный человечек, который с самого утра разделял с ними компанию. Не слышалось ни звука, бог весть что происходило там, за спущенными шторами и закрытыми дверями, и эта неизвестность была ужасна. Все они не сомневались, что человечек этот, который поначалу казался таким неприятным, а потом постепенно вылез из своей раковины и подружился с ними и с которым всего пятнадцать минут назад они еще разговаривали, умер и теперь там заперлись представители власти и закона, чтобы по всем правилам удостоверить его смерть.
Потрясенные, пораженные ужасом, они не в силах были оторвать глаз от купе с пугающе опущенными шторами, как вдруг резко щелкнул замок, дверь открылась и тотчас вновь захлопнулась, вышел чиновник. Это был рослый, дородный дядя в фуражке с козырьком и в оливково-зеленой тужурке, лет сорока пяти, скуластый, краснолицый, с темно-рыжими усами торчком, в точности как у кайзера Вильгельма. Голова обрита наголо, затылок и мясистая шея — в глубоких складках. Он вышел, неуклюже спустился на перрон, махнул другому полицейскому, возбужденно его окликнул и снова полез в вагон.
Люди этого склада и обличья хорошо известны, таких Джордж часто встречал и посмеивался над ними, но теперь, при загадочных и мрачных обстоятельствах, в нем чувствовалось что-то зловеще-отталкивающее. Самая его тяжеловесность и неповоротливость, то, как неуклюже он вылезал из вагона и взбирался обратно, его толстое брюхо, широченный жирный зад, вздрагивающие от волнения и важности воинственно торчащие усы, гортанный окрик, которым он звал другого полицейского, то, как он пыхтел и отдувался — олицетворение разгневанного блюстителя власти, — все черты, неизменно присущие людям этого типа, вдруг стали Джорджу мерзки и ненавистны. Внезапно, сам не зная почему, Джордж ощутил, что его сотрясает неистовая, непостижимая ярость. Сломать бы эту жирную, в глубоких складках шею! Разбить бы в лепешку эту распаленную тупую морду! Пнуть бы изо всей силы этот толстенный непристойный зад! Как все американцы, Джордж недолюбливал полицейских — чванных, упивающихся сознанием своей власти. Но то, что он испытывал сейчас, задыхаясь от жгучего, неистового бешенства, было несравнимо с прежней неприязнью. Ибо он знал, что беспомощен, как беспомощны все остальные, и это было мучительное чувство: ты бессилен, скован по рукам и ногам, и не одолеть тебе стену этой бессмысленной, но непоколебимой власти.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [английский и русский параллельные тексты]](/books/32195/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-anglijskij-thumb.webp)



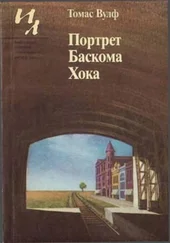
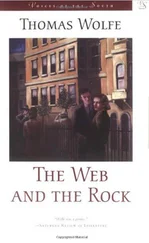

![Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел [litres]](/books/436326/tomas-vulf-vzglyani-na-dom-svoj-angel-litres-thumb.webp)

