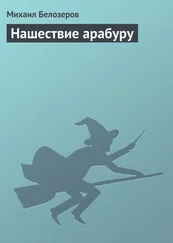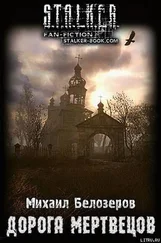Пока Анна на скорую руку что-то накрывала на стол, я рассматривал семейные альбомы, — словно этапы чужой жизни в картинках. И эти картинки могли быть очень разными. Это могло быть молодое лицо с южным румянцем, трогательными ключицами в глубоком вырезе черной блузки и скорбно сложенными руками — поза, которая передается из поколения в поколение и которая потом дополняет увядшую улыбку и провал старческого рта. Это могло быть и немолодое лицо, и вы его знаете. Однажды вам скажут под большим секретом, что у него рак пищевода (вначале все начиналось как дивертикул) и что он уже перенес операцию — к усеченному пищеводу поднят желудок — и лучетерапию. И вот вы его случайно встречаете и ведете бодренький разговор, но глаза выдают вас, и у вашего собеседника, от которого осталась за восемь месяцев одна треть, начинает дрожать подбородок и глаза панически подергиваются влагой, и тогда вы делаете вид, что заинтересованы чем-то на другой стороне улицы, достаете платок и долго сморкаетесь, не глядя на собеседника, сами в не меньшей панике (но панике совершенно другого рода), а потом продолжаете чувствовать его рукопожатие и дома обязательно вымоете руки с мылом. И еще вы будете чувствовать странное беспокойство, потому что он скажет такую вещь, о которой вы задумываетесь только, когда грянет гром среди ясного неба.
Он скажет: "Знаешь... всю жизнь куда-то полз, к чему-то стремился, пресмыкался... а все ни к чему, пустыня..."
И ему можно верить, потому что он стоит перед тем, по сравнению с которым все остальное ничто.
Такие мысли навеял мне семейный альбом, который был полон не только приятных лиц.
А потом мы пили розовое шампанское, и я пытался разговорить моего молодого оппонента, впрочем, без малейшего намека на помощь со стороны Анны.
Мы находились на пятом этаже девятиэтажного дома, в квартире, обставленной если не шикарно, то по крайней мере не безбедно, с массой различных приспособлений, которые так облегчают и украшают жизнь, и этот мальчик, видно, не испытывал отказа в своих желаниях.
— Вы меня угнетаете, — он улыбнулся с видом профессора, дающего пояснение студенту, — не вы лично, конечно (и на том спасибо), а то, что создали. Вы меня понимаете?
Вот что он сказал.
И я понял и почувствовал себя второй раз виноватым перед этим мальчиком, который мог быть моим сыном и который не распознал во мне соратника. Может быть, всему виной была всего лишь разница в возрасте, а может быть, старшее поколение олицетворялось у него с ложью и это было зачатком бунтарства. Ясно было только одно — он не особенно старался разобраться или еще не умел это делать. Мне хотелось, чтобы он научился, и я бы ему с удовольствием помог.
Иногда Анна пропадала на пару дней, и тогда телефон становился сторожем моего сознания. Но звонила она всегда, даже когда в трубке слышались голоса, множество голосов, и я делал вывод, что в большом кабинете с мягкими креслами идет совещание и она урвала мгновение, чтобы напомнить о себе, — тогда я слышал в трубке короткое дыхание: "Да" и "Нет" (потому что я только и делал что задавал вопросы) и еще то, что соответствовало этим словам, но осталось невысказанным, да и вряд ли это можно было высказать.
Иногда Анна появлялась неожиданно. И я, отпирая дверь, всегда испытывал то, что должен был испытывать при виде блестящего чуба цвета вороного крыла и веселых глаз под ним и ниже — прекрасно очерченного рта, в меру подведенного помадой.
Она влетала, затянутая во все официально-кабинетное, в спальне срывала это с себя и облачалась в мой широкий халат, приходила на кухню, где мы ужинали и разговаривали, потому что вечера были долгими и времени было много, а за окном темнела улица и доносились голоса. И только в нашем оазисе за задернутыми шторами реальность сдавала свои позиции, и боль, и музыка, и любовь перемешивались, сплетались, а тонкие ловкие руки с удивительным завораживанием подносили чашку к губам или покоились на моих плечах, если мы танцевали под Паулса, и блеск улыбки в темной комнате, и шепот, и ласки, и волосы, низвергающиеся бесконечным водопадом, и руки, и томление, и нечаянный вздох. Но и даже потом, когда мы лежали в темноте и чувствовали друг друга, и потом, когда духота наваливалась и не давала уснуть, когда мне хотелось узнать и я спрашивал: "Как тебе сегодня?..", а она отвечала: "Ты же знаешь, что я не люблю расспросов", или когда она просто тихо дышала рядом (не это ли есть вечность?), в ней присутствовало нечто — тайна, или лучше сказать, — способность создавать эту тайну, лишь намек, подсознательное движение, просто улыбка — мадонны, озера, бездны, небесного заката — все то, что заставляет трепетать вашу душу и пробегать морозцу по спине. И я знал, что буду отгадывать тайну долго, очень долго, и никогда не отгадаю. И это тоже была ее прелестью и моей одержимостью впередсмотрящего.
Читать дальше