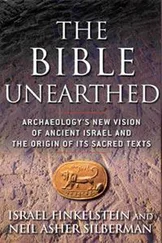Сталин тоже посмотрел на Гришу. Но никого не увидел.
Мира услышала звуки, похожие на колокольный звон, открыла глаза и с облегчением вздохнула. Она привыкла к этим звукам, знала, что это звенят промороженные трупы, которые забрасывают в грузовик, и поняла — жива, еще жива! Впрочем, был и другой повод радоваться, но она никак не могла вспомнить, какой именно. Кажется, пошел третий день, размышляла она, когда я последний раз сползала с дивана. Помню, вынула из рам портреты папы и мамы, рамы положила в «буржуйку», подожгла, потом попыталась снять автопортрет Вавы — но не смогла его достать. Сил хватило лишь поплотнее завернуть Сашу, поцеловать его. Он дернулся, фыркнул — видно, губы ее были очень холодные — и снова заснул, а она поползла обратно на диван. Лежать и ждать, когда и они с Сашей превратятся в сосульки и их забросят в грузовик, который по утрам объезжает переулки на Литейном.
Ага, вспомнила — Сашу уже не забросят! Вчера в квартире раздались человеческие голоса.
— Ау, есть тута кто живой? Ау!
Она вспомнила, как открыла глаза и увидела перед собой серую шаль.
— Гражданочка, сыночку твому сколько будет? — спросила шаль.
Мира не поняла.
— Сыночок-то у тябя дышит. Стало быть, заберем его в детдом, живой будет. Ты только скажи, сколько ему и как звать.
Мира наконец сообразила, что от нее хотят, но говорить не было сил. Шаль продолжала дышать теплом:
— Говори, говори, милая, я по губам понимаю.
— Саша. Шесть ему…
— Ага, поняла. Пиши, Варвара: Александр, значит. Шесть годков. А фамилия как? Фамилия вашенская как будет?
— Пяти… ор… ски…
— Не поняла, давай еще скажи.
— Пяти… ор… ский…
— Пятиборский? Так и пиши, Варвара, Пятиборский. Бирку туже завяжи, смотри, шоб не спала. Ладушки, — дыхнула шаль на прощание, — мы пойдем, а ты, милая, лежи, дожидайся. Вот, с робятишками управимся, родителев собирать будем.
Несуразное существо в стеганых штанах, ватнике и огромных валенках со скрипом поднялось с колен. Мира закрыла глаза: какое счастье, что Сашу забрали в детдом! Теперь он уже точно останется жить, вырастет большим и красивым, как и его отец.
С этой приятной мыслью Мира отошла в сон.
Разбудило ее горячее дыхание. Нет, это был не пар изо рта старой женщины, это был огонь, настоящий огонь!
— Мира, Мирочка, родная моя, проснись, это же я, Вава.
Боже мой, Вава! Ее Вава, ее дорогой, ее любимый, ее единственный Вава!
— Вава, Вавочка, милый мой, неужели это ты? Я так ждала тебя. Где же ты был? Целых полтора года ни одной весточки. Но почему, Вава, почему?
— Не мог я писать, радость моя. Совсем, со-всем-не-мог! Помнишь наш последний день, двадцать второго июня?
— Да, да, ты был такой бледный, ты смотрел куда-то в пространство. Я испугалась, спросила, что с тобой, а ты не ответил, только протянул руку. Я разжала кулак, а там лежала эта бумажка… повестка. А потом ты собрался и ушел. И больше никогда, никогда…
— Прости меня, родная, я думал, что еще увижу тебя. Я не знал, что нас сразу отправят на фронт.
— Как, тогда же, в тот же день?
— Ну конечно, родная. Выдали гимнастерку, ботинки, мешок. Раздали винтовки, — одну на пятерых, — и марш! Мы думали, будем чему-то учиться, а нас через леса и болота на Лугу. Ну и намучились! Одно утешение, со взводным нам повезло. С виду мужик-мужиком, рожа круглая, словно сито, а на самом деле душа-человек. Пройдем километров десять, он: «Привал, интеллигенция, будем кипяток ставить, обмотки учиться завязывать». В общем, довел нас до Луги. Там паек выдали, и снова в поход. На юг, немца бить. А никакого немца и нет. Плутаем в лесах и болотах, вымокли, как черти, и уж не знаем, где мы и куда идти.
На десятый день слышим гул. Взводный говорит: «Это артиллерия, немецкая». Гул все приближается, в сплошной рев переходит. Взводный командует: «Окопаться, занять оборону». Мы изо всех сил землю роем, кто чем может, — лопатой, штыком, руками. Потом залегли, ждем, что немец вот-вот пойдет в атаку, но слышим, танки и машины где-то у нас сзади. Уже и мотоциклы стрекочут, и автоматные очереди. Мы врассыпную и в лес. Я взводного держусь, стараюсь не отставать. Вдруг смотрю — он упал и за голову схватился. Подбегаю, спрашиваю: «Товарищ командир, что с вами? Давайте я вас подниму». — «Ты, что ли, Володя? Не вижу я, голову зацепило, конец мне. А ты беги, к своим пробирайся. И документы выбрось. Нельзя с твоими документами».
Я пытаюсь его поднять, не могу — большой он, тяжелый. А пули над головой свистят, ветки сбивают. Тут я достал военный билет, карточку. Только зарыл, слышу: «Стоять! Руки вверх!» Поднимаюсь, немцев двое. Один пожилой, в шинели, автомат на меня направил, вот-вот выстрелит. Другой молодой, с винтовкой, бледный весь, перепуганный. Пожилой кричит: «Почему второй не встает? Встать!» Я — ему: «Он мертвый». Пожилой мне: «Пять шагов вправо», а молодому: «Проверь». Я отхожу в сторону, молодой подходит к взводному, но тронуть его боится: «Вроде мертвый». Пожилой: «Ладно, веди этого, я сам проверю». Молодой наставил на меня винтовку, орет: «Марш!»
Читать дальше