Вот так, проповедник! — проорал мне Билл. — Сам не можешь, дык я сделаю! Вот так мы расхерачим белую сволочь! А ты заткнись, пиздюлина белая! — это он уже мисс Саре, потом опять мне: — Что, проповедник, будешь сам ее или опять мне?
Я совсем лишился дара речи — хоть и пытался шевелить губами, — но это было уже неважно. Билл только начал, его алчба лишь разгоралась, безудержная, ненасы-тимая. Не успел я и глазом моргнуть, как он все решил за меня. Почин совсем перешел в его руки.
А ну отзынь, проповедник! — скомандовал он; не помня себя, я подчинился, и одним прыжком он уже был в кровати, верхом на бьющейся, визжащей толстой женщине, добрейшей душе, которая так и не сумела нынче выбраться на религиозный съезд. Вновь дело было сделано с изумительным напором и быстротой; вновь рвение и непреодолимость натиска этого маленького, истерзанного, испещренного шрамами черного человечка были таковы, словно в этом объятии он изживал., наконец, память о тех десяти тысячах моментов в прошлом, когда вспухало бешеное и неутолимое вожделение. Между голых бьющихся бедер мисс Сары, застыв в непреходящей своей устремленности, он лежал как любовник; ищущими под собою руками и головой он скрывал лицо женщины почти полностью — за исключением спутанных прядей ее волос да зрачка одного глаза, дико прыгающего из стороны в сторону, и уже чудилась в нем пустота безумия еще до того, как тесак заработал снова: вверх — и вниз, и ее крик оборвался. Затем изверглось невообразимое море крови, и я услышал, как обитавшая в ней душа покидает тело: мотыльком она пролетела мимо моего уха. Я отвернулся, а тесак сделал окончательное чинк-чонк и остановился. Оттолкнув в стороны Генри и Сэма (может ли быть, неужто я пытался сбежать?), я бросился в открытую дверь. Уже на пороге увидел Мозеса — держа свечу, черный мальчишка стоял разинув рот, с искаженным лицом, словно в каком-то лунатическом кошмаре. Странный, похожий на музыку, на песнь рожка, что-то выкрикнул сверху голос — да, то был голос Харка, — в нем слышалось торжество; раздался грубый топот и шарканье, тащили что-то тяжелое, проскрипели доски чердачного настила, и по крутым ступеням — шарах-бах-трах — вниз вместе полетели бледные, изрубленные, кровавые тела Патнема и Вестбрука, будто огромные бескостно-податливые куклы, брошенные рассерженным ребенком, и сразу босые ноги Мозеса вымокли и окрасились алым. Струи крови неописуемым узором пролегли по всем стенам, по доскам потолка; крови стало столько, будто хляби всех океанов накрыли нас кровавым валом.
Господи, Божсе мой! — подумал я чуть ли не вслух. — Воистину, ужсели к этому Ты призывал меня?
Вдруг гром, топот — это по чердачной лестнице спустился Харк, в свете факела его глаза сияли, на лице безмятежная радость. Одним прыжком он перескочил через оба трупа. Уже не тот был Харк — не раб рабов, теперь он познал вкус крови. Растерянный, горюющий отец стал человекоубийцей.
Фу т-ты ну ты! — проговорил он.
Уходим отсюда! — выкрикнул я, стараясь, чтобы голос не подвел. — Вперед, вперед!
Еще пока я говорил, почувствовал, как запястье пронзило сильнейшей болью. И в тот же миг, глянув вниз, принялся разжимать челюсти Мозеса, который, совершенно ополоумев от увиденного, хватил зубами первую попавшуюся плоть.
Однажды вечером незадолго до суда, сидя в камере, я вспомнил, как мистер Томас Грей сказал мне тем то ли растерянным, то ли задышливым тоном, что появлялся у него, когда он ни за что не мог поверить услышанному:
Но ведь бойня же, бойня, Преподобный, бессмысленная резня! Кровь столь многих безвинных! Чем это оправдаешь? Об этом людям хотелось бы знать в первую голову. Да и мне, видит Бог, хотелось бы знать это! Мне тоже!
Пронзительный ноябрьский ветер гулял по камере. Щиколотки застыли и онемели от кандалов. Когда я сразу не сумел ответить, он опять принялся за свое, похлопывая бумагами с черновиком моих признаний себя по толстой ляжке.
Я вот к чему, Преподобный: Божсе же ты мой, в некоторые мелочи просто никак невозможно поверить, они не укладываются в голове. Хм. Мелочи. Вот, послушай. Это ты сам свидетельствуешь под присягой. Покинув дом Тревиса и четверых убитых, ты вдруг вспоминаешь о младенце — ребенку нет еще и двух лет, спит себе в колыбели. Говоришь, собирался оставить дитя в живых, но вдруг передумал. И вот, во всеуслышанье провозгласив, что “вши выводятся из гнид” — изящное замечание, Преподобный, не правда ли, особенно для лица духовного звания! — ты отправляешь Генри с Биллом обратно в дом, и там они берут бедное ни в чем не повинное дитя за ноги и вышибают ему мозги ударом о стену. Это такая мелочь, в которую нормальному человеку поверить просто никак невозможно! Тем не менее чистая правда. Согласно твоему собственному признанию. И ты по-прежнему упрямо твердишь, что и по поводу этой жутчайшей сцены ты никаких угрызений не испытываешь. Никаких мук совести, никакого раскаяния, так?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
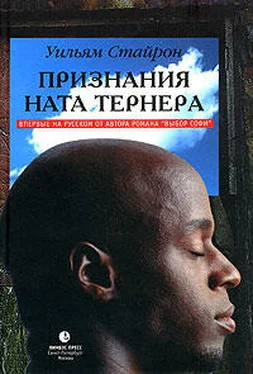




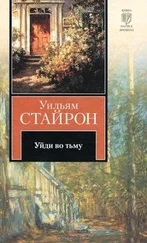




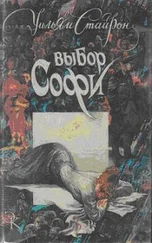
![Уильям Стайрон - Выбор Софи [litres]](/books/403897/uilyam-stajron-vybor-sofi-litres-thumb.webp)