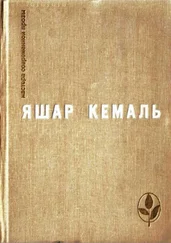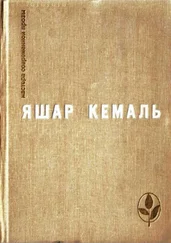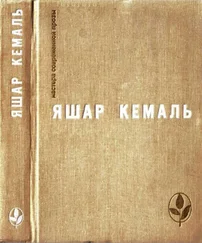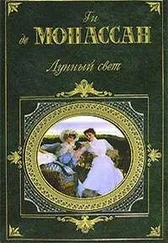— Ничего, — пролепетал в ответ Мустафа.
А внутри так все и зашлось от ужаса: беги, беги, пока не поздно!.. Но он совладал с собой, поднял лицо.
— Нечего тебе тут делать. Катись отсюда.
— Мне Хасан-бей велел прийти. Вам в помощь, дяденька.
Джумали с неожиданной при его медлительности прытью крутанулся на месте и, стоя спиной к мальчику, раздраженно бросил:
— Да он совсем рехнулся, этот твой Хасан-бей! Доверить обжиг кирпичей этакому заморышу ростом с мою руку! — И, повернувшись к Мустафе: — Эй ты, недоносок, кирпичи-то знаешь, как обжигают?
— Знаю.
— Три дня и три ночи, сукин сын…
— Знаю.
— Где ж ты этому научился? У матери в утробе, что ли? Выдержишь три ночи без сна?
Мустафа молчит.
— Вот что я тебе скажу, парень, эта работенка не про тебя. И меня под беду не подводи. Видишь эту топку? Трое суток огонь должен пылать не угасая. А тебе придется трое суток, глаз не смыкая, хворост таскать. Два часа я, два часа ты… Иди лучше к мамаше своей, а Хасан-бею скажи, что не сможешь работать на обжиге. Пусть вместо тебя кого другого пришлет.
Мустафа потоптался на месте, против воли сделал несколько шагов в сторону касаба [7] Административный центр уезда.
. Ноги не слушались его. И тут перед его мысленным взором возникли белоснежные брюки — а, будь, что будет, лишь бы иметь это чудо! Облака — белые, белье после стирки — белое, хлопковые кипы — белые. Белизна обступила мальчишку, заполнила все пространство. Горло жгутом перехватили слезы. Если б не удержался, так хлынули бы неудержимым потоком. Мягким, заискивающим тоном он принялся увещевать своего напарника:
— Дяденька Джумали, я буду не хуже любого взрослого работать. И спать не буду. — И пошел на отчаянную хитрость: — Хасан-бей все равно отошлет меня обратно, он ведь мне уже отдал деньги. Я купил себе туфли на резине и белые брюки. Дяденька Джумали…
Здоровяк свирепеет:
— У-у-уходи, сопляк! Не навлекай беду на мою голову!
Но и Мустафа начинает сердиться.
— Ты почему не даешь мне на хлеб заработать? Ребенок, говоришь? Я что, меньше других работаю? И деньги я уже получил вперед. Если я сейчас приду к Хасан-бею, он меня все равно обратно пошлет.
— Вот как?
— Да. Наличными расплатился он со мной.
— Тогда начнем. Но если уснешь, я тебе покажу!
Мустафа подбежал к Джумали, весь светится от радости, ухватил его за правую ручищу.
— Я так буду стараться. Так, так стараться. Увидите. Я уже заказал себе белые штаны у Вайыса-уста. Он мне обещал красиво пошить… И вы тоже получили наличными? Увидите, увидите, как я буду работать.
Вкрадчиво, почти ласковым тоном Джумали отозвался:
— Ну, это мы посмотрим. Ей-богу, ты, парень, какой-то ненормальный.
Джумали с помощью Мустафы притащил кусок соснового корневища, запалил его и бросил в топку. Немного погодя сушняк внутри стал потрескивать. Неожиданно занялось сильное пламя. Из распахнутой печной пасти, величиной с обычное окно, полезли наружу длинные светло-морковного цвета языки.
Джумали ругнулся:
— Педик несчастный! Кто же столько хвороста запихивает в топку поначалу!
Он поставил мальчишку перед собой. Долго и обстоятельно растолковывал, как, когда и сколько хвороста надо класть в печь. Объяснения перемежал отборной бранью. Постепенно огненные языки стали укорачиваться. Они уже не обдавали жаром все вокруг, а как бы втянулись в печную пасть. Внутри стало темно, как в пещере. Мустафа, не спрашивая Джумали, приволок охапку сушняка и сунул внутрь. И еще одну охапку приволок. А полдень плескал потоки зноя на пыльный проселок, на большие смоковницы с мясистой листвой, с узорной тяжелой тенью, реку, отливающую плавким золотом, на небо цвета холодного пепла, на привязанный невидимой бечевкой к холму огрызок белесого облака, на птиц, иногда пролетавших в жидком мареве, на припудренные пылью травы, на поникшие головками желтые цветы среди выгоревшего выгона, на белую кашку, на груду сушняка. Липучий жар выдавливал пот из всего живого и неживого. А когда подступаешь близко-близко к горнилу печи, чтобы швырнуть туда ворох веток, — это сущая смерть. Сверху — солнце, сбоку — пламя. Черные угольки глаз Мустафы. Оскаленные в улыбке белоснежные зубы. Лоб, скулы, подбородок мальчика опаляет пламя, окрашивает в свой цвет. А рубаха мокра, хоть выжимай.
На юге, там, где плещется в дальней дали Средиземное море, стали кучиться облака. Значит, вскоре повеет влажный, прохладный морской ветерок. Скоро он оботрет влажным полотенцем пропеченные на солнце человеческие тела.
Читать дальше