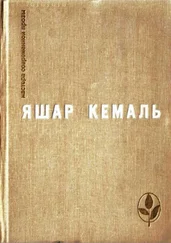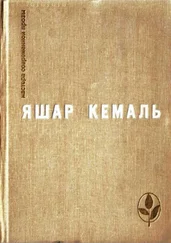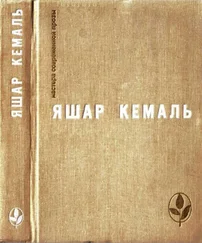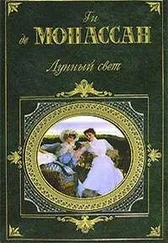Сапожник платит Мустафе двадцать пять курушей в неделю. За месяц работы — одна лира. А летние туфли стоят две лиры. Белые брюки — три лиры. Всего пять лир. Сейчас уже июль. Значит, за июль, август, сентябрь наберется всего три лиры. Не обзавестись ему летними туфлями и белыми брюками!
Спасибо Хасан-бею! Второго такого замечательного человека нет во всем городе. Шутка ли — полторы лиры в день! За три дня — четыре с половиной.
И вот как оно все будет. Сначала он вымоет руки. Хорошенечко, с мылом. Потом тихо-о-онечко развернет бумагу и вытащит белоснежные парусиновые туфли. Потом вымоет ноги, тоже с мылом. Носки белые аккуратненько натянет, сунет ноги в белые, хрустящие, новехонькие туфли. А вот брюк даже нельзя касаться руками. Каждый дурак знает, что белую жвачку нельзя хватать — сразу запачкается. Точно так же и белые брюки.
А у самого моста гуляют девушки. Ветер раздувает им юбки, прилепил к ногам белые шароварчики.
Мустафа к матери кинулся.
— Мамулечка! Родненькая! Я с Джумали буду кирпичи обжигать для Хасан-бея.
— Нет!
Мустафа опешил.
— Почему это нет?
— Ты когда-нибудь кирпич обжигал? Знаешь, что это такое? Три дня, три ночи не спать — выдержишь?
— Выдержу!
— Одна я только и знаю, чего стоит добудиться тебя по утрам. Выдержишь, как же!
— По утрам — это другое дело. Мам, ну пожалуйста.
— И не проси.
— Увидишь, я совсем спать не захочу.
— Уснешь как миленький. Не выдержишь.
— Ма-а-ам! Хорошая моя! Вот ведь Сами, сын Тевфик-бея…
— Э-э-э, — тянет раздраженно мать.
Мустафа отлично знает слабую сторону матери.
— Так вот, Сами носит брюки белые-белые. Как молоко. И туфли на резине…
— Э-э-э…
— Ой, до чего же красивые! Белые-белые. Как молоко. Нет, как снег. А у меня есть шелковый жилет. Думаешь, не подойдет он к белым брюкам? Еще как подойдет!
Мать склонила голову, побледнела.
— Что ж не отвечаешь? — настаивает сын. — Не пойдет мне такой наряд? И ты не бойся, не испачкаю его… Три дня и три ночи всего придется попотеть! Зато как только деньги получу, пойду к Вайысу-уста, портному. А у Хаджи Мехмеда куплю белые туфли на резине. Шелковый жилет — в сундуке.
Мать подняла голову. В глазах — непролитые слезы. Медленно приблизилась к сыну.
— Мальчик мой дорогой. Разве я говорю, что не к лицу тебе такая одежда?
— Вайыс-уста — замечательный портной. Шьет прочно и хорошо. Мамочка, родненькая, так можно я пойду?
Мать невольно улыбнулась.
— Делай что хочешь, сынок. Мое дело — сторона.
Едва она произнесла эти слова, как Мустафа высоко подпрыгнул, кубарем из одного угла в другой прошелся.
Бросился к матери, расцеловал ее.
— Мамочка, когда я вырасту…
— Когда ты вырастешь, будешь много, много работать.
— Ну да, а еще?
— Еще разобьешь сад на участке возле речки. Закажешь темно-синий костюм в Адане. Заведешь лошадь. Сядешь верхом…
— А потом?
— Покроешь крышу черепицей, чтобы больше не протекала.
— А потом?
— Станешь как отец.
— А если бы отец был жив?
— Ты пошел бы в высшую школу. Учился бы и стал большим, большим человеком.
— А теперь?..
— Если бы твой отец был жив…
— Послушай, — перебил ее Мустафа. — У меня будут золотые часы, когда я вырасту. Правда ведь?
Мустафа проснулся еще до рассвета. Печь для обжига кирпича находилась в саду зубного врача. Отправился в путь. Из-под его башмаков маленькими фонтанчиками взметывалась пыль.
Из-за холма на востоке неудержимо нарастающим селем хлынул влажный солнечный свет. Пока мальчишка добирался до печи, солнце уже, ярко пылая, расселось на вершине холма. Роса высохла.
Мустафа пригнулся, заглянул в распахнутую пасть печи. Там, внутри, темным-темно. Рядом с печью — гора сушняка. До полудня бродил мальчик вокруг. Предвкушение великого счастья — обладания белыми брюками — омрачал только страх перед тремя бессонными ночами.
Ровно в полдень, весь в пыли и потный, заявился Джумали. Здоровенный детина, он всякий раз, прежде чем сделать шаг, словно бы выбирал место, куда поставить ножищу. Невдалеке от печи остановился. При виде этакого великана мальчик вовсе оторопел. Джумали, все так же грузно ступая, приблизился к печному зеву, с трудом согнулся. Лицо у него злобное, на своего напарника он даже и не посмотрел. Долго стоял, согнувшись в три погибели, сунув голову в печь. Потом выпрямился, сделал в сторону мальчика пару шагов и, не глядя ему в лицо, спросил:
— Чего это ты здесь околачиваешься?
Читать дальше