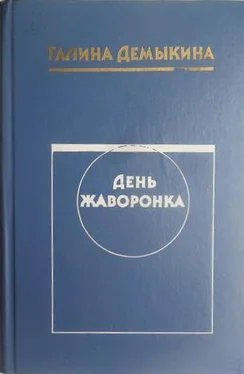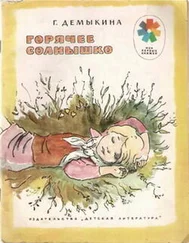— У него голова-то — ууу! — когда трезвый-то! Дак ведь вот вино…
А он женился, переехал в Крапивин, стал шоферить. К матери заходил в подпитии, навещал. Разожмет кулак, положит на стол мармеладку, глянет умильно: гостинец привес. Был он востроносый, узколицый, быстрый в движениях — красивый вроде мужичок, ладный, хоть и росточку некрупного. А глаза въедливые. Виталий не любил его. И пользовался взаимностью.
— Расти большой, да не будь лапшой, — насмехался Сергей.
Виталий смалчивал: знал, что гладко не ответит, а запинаться перед ним гордость не позволяла.
На этот раз Серега, как муха в варенье, влип в разговор об отъезде и о встрече с Пал Палычем — на том благостном его повороте, когда мама сообщила:
— Предложил мне младшие классы.
Виталию хотелось положиться на судьбу: вот, значит, такая судьба — им оставаться здесь, у старухи Марьи Гавриловны. И это снова ожесточило: но ведь кто-то должен приложить усилия! Сама не хочет и ему не велит. Что ж, так и жизнь проживем здесь? Тогда нечего торчать в школе. Работать надо.
— Детям моим дом мой ни к чему, — отозвалась своим мыслям бабка Марья. — А я уж из годов вышла.
— Я тогда, мам, работать пойду, — сообщил тоже о своем Виталий.
— Что ты, Талик, надо школу окончить.
И пошел, как обычно, разговор, похожий на подстройку инструментов в оркестре:
— Вон лесины какие еще дедом привезены. Придел приделаете. А меня прокормите.
— За… зачем школу, мама, если в институт не поступать?
— Как же не поступать? Отец хотел…
— Это ведь что — чужие, а дед мой как вас жалел… Царство ему небесное…
— Верно, Марья Гавриловна, добрый был дед!
— А то! Сроду не скричит. Да — да, и нет — тоже да!
Вот тут-то он и прорезался, востроносый Серега. То молча стоял у притолоки, глазами зыркает, а теперь возговорил умильно:
— Дорогие гости ли, хозяева… уж как и сказать… Не взыщите. — Он снял кепку, отвесил поклон, юродствуя. — Мотушку мою не обижаете? Матушка, не в обиде ли вы?
— Садись, садись, сынок, шшей налью.
— Э, твои щи! Стаканчик бы поднесла.
— Уж поднесено вроде.
— То — чужие, а то — мать. Разница. — И вдруг круто: — А у жильцов бумага есть здесь проживать?
— У нас временная прописка, — ответила мама, бледнея.
— Вот то-то, что временная. А сколько годов это время-то? Год ли, два — жисть, может, вся. Мы и живем временно. До смерти.
— Не беспокойтесь, Сергей Степанович, мы на ваш дом не претендуем.
— А чо мне тревожиться? Мой он — и мой.
— Не твой дом, Сережка! Ты вон, как съехал, доски и полу не сменил, все погнило.
— Ладно, мать, с тобой разберемся. А вот с ими…
Ни разу такой разговор не заходил. И что ему? Живёт в другом краю города. Но что-то, видно, копилось, и теперь пьяно и зло плескалось внутри, затопляя края.
— Я такой-то вот лоб был, как этот малый, да к я на тракторе работал.
— И я работал в колхозе.
— Знаем вашу работу. Убытков не сочтешь.
Можно было спросить: «А вы считали?» Но это надо бы сразу. Или: «Не нравится — не звали бы». А был бы хороший разговор — просто можно рассказать, как выбирали эту картошку руками из грязи, как мерзли руки, как далеко было ходить до деревни, да мало ли что. А тут Виталий молчал и молчал. Что ж — чужой. И мама, белая совсем, сжалась в комок — и тоже ни слова. И чего уж так пугаться?
— Вот орешь, Серега, а Елену-то нашу Петровну в учительки обратно зовут. — Старухе хотелось мира. Она любила всех троих, — как их очертить добрым кругом?
— Да живите, мне что? Кровать пролежите, что ли? — и пошел к двери. Даже гостинец забыл отдать. — Старуху-то всякий обдурит.
Черная злоба залила вдруг Виталия. Так и вцепился бы в этот аккуратно стриженный затылок, перекусил бы… Мама глядела беспомощно. Другая бы не промолчала, отбилась. А разве отец позволил бы? Да он…
В дверях качнулась черная кепка, под ней — востроносое лицо. Он не был утолен, и потому его осенило:
— А чему така женщина может учить, котору муж бросил? — Палец его чертил воздух. — Чему?
Виталий не заметил, как очутился возле, как узкое, верткое тело оказалось у него в руках. Он нес это извивающееся тело с омерзением, точно большого червяка, и бросил возле крыльца на землю, и оно поползло с рыком и угрозами: «Сожгу, сожгу, и дом не отстоите!» — Оно цеплялось за изгородку и уползало вдоль кольев, сворачиваясь и разжимаясь.
Виталий сел на расхлябанную ступеньку. Глаза еще плохо видели. Чего он так разозлился? Не только из-за отца. Чего пьяный дурак не наболтает. Нет, выбил его этот Серега из какого-то хрупкого состояния, когда думалось, виделось, сочинялось, будто разбил домик-ракушку — и вот, лишенный укрытия, мягкий, беспомощный, остался на жесткой земле…
Читать дальше