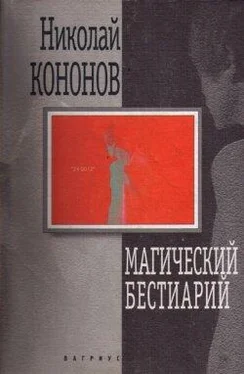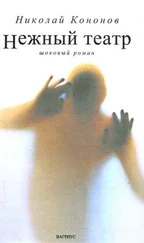Мне неможется…
И вдруг до меня доходило, что от недоумения до безумия мне оставался один шаг.
И моя Анастасия, не позволявшая сказать мне – “ты моя Анастасия”, на “Настю” я уже и не замахивался – всячески толкала меня к тому, чтоб я его сделал. Чтобы из наших плотских отношений получился плотский рассказ с эксцессом.
Она не унижала меня, и была даже добра ко мне. Ужин, завтрак, сухомятка, переписка конспекта по лабуде с волчьими ягодами непристойностей.
О, хоть бы она меня унизила, но так, что б я смог ей ответить. Словами высказать свою обиду и, может быть, счастье заодно.
Я предлагал в разные дни разные услуги: встретить на ранних поездах Мусин харч и старухин поридж. Врезать новый замок на входную дверь, починить почтовый ящик, навесить карнизы, снести со второго этажа старухино кресло вместе с нею во двор, на свежий воздух. Обычно Анастасия отворачивалась. Но однажды мне было сказано:
– Пожалуйста, не предлагай нам никаких бытовых услуг. Никогда.
И все – четко и раздельно, почти по слогам. Ни-ко-гда. Года. О да.
Без тени раздражения.
Когда я предложил то же самое Виктории, она безглазо уставилась на меня, как курос, которому не прорисовали очи и только что перевернули на ноги:
– Это вы к Анастасии, к Анастасии.
Во мне никто не бывал в такой степени не заинтересован…
Кроме Муси со старухой у самого серого моря чб телика, переживающего очередной приступ ряби от трамваетрясения.
Я ведь неплохо зарабатывал в вечерней школе и предложил купить им новый телик или хотя бы приемник для старухи. Услышав это, бабушка сказала, как девочка:
– Я хочу телевизор.
А Анастасия только промолвила, глядя в плинтус:
– Не надо этого бытового ража, тем более совершенно чужой семье…
– О! – тогда сказал я…
Точнее, я охнул, но не на выдохе, а на вдохе, как будто глотнул жара из самой топки. Или оттуда. Но там, даже по Данту, такие холода.
Кстати, той зимой тоже был рекорд морозов, таких, что все трещало. Было так холодно, что казалось, – не потеплеет никогда. И в одну из ночей, когда я уже исходил в губы Анастасии, опершись руками о подоконник, ее тахта стояла стерильно посередине комнаты, впритык к окну, я сквозь любовный дурман заметил на противоположной стороне в свете фонаря поверженное тело. Вблизи, у самого войлочного склада. Когда я слизнул с ее уст миллион своих мальков и, отдышавшись, рядом с моей пенорожденной – она опережала меня в оргазмах на три корпуса, – сказал, что пойду посмотрю, кто там валяется валенком в такой мороз.
– Иди, – сказала Анастасия.
И она прибавила другим голосом, через целый век тишины, который длился мгновение:
– Иди и не возвращайся уже н-и-к-о-г-д-а. Адью…
Это «уже» меня добило.
На дикой улице на черном холоду я почувствовал, что плачу. Когда я стал толкать эту спящую мякоть в шинели прапора, то получил нечленораздельный заряд ругани и матюгов. Я был и в рот ебанный, и говно, и козел, и мразь, и карась, но, невзирая на этот поток, я, слизывая свои слезы, дотолкал его до КПП сверхсекретного стратегического склада.
– Да, мудаку все похер – не мерзнет, чистый антифриз х…ев. Но все равно, зяма, ептваймать, спасибо тебе члавеческое, дай пять…
Это “спасибо” вошло в меня как полстакана водки…
Я решил, что все кончено.
Но так как “Венеру в мехах” я еще не читал, то и не знал, что легко мне не отделаться.
Поделиться мне было абсолютно не с кем. И мать решила, что я просто бросил что-то сторожить три раза в неделю. Во мне закипал кошмар, я не мог есть. То есть – я действительно не мог . И глагол есть уже ко мне не относился. Я стал не-есть . Меня как бы уже не было.
Как написано у Сапфо, “зеленее становлюсь травы.” Вот-вот я должен был проститься с жизнью. Я знал, как это сделаю. Горсть таблеток – и засну где-то за путями. Если заберут, так в ментуру, а там уж точно не разберутся, куда меня надо везти на самом деле. С этим было решено.
Я, когда сейчас это пишу, хорошо помню – две баночки йодистого стекла, скользкие, и звякают в кармане моей куртки.
Меня спасло то, что я начал писать письмо.
Ни с того ни с сего, будто я знал о лингвокоррекции и других мудрых способах избавления от психопатоподобных состояний. Ведь я стал тихим психопатом. Я замолчал. Жизнь мне сделалась мала. Саюз «уж е », брошенный в меня на прощанье Анастасией, превратился в злокозненное наречие « у же».
Мне все стало мал о . Я увидел свое ничтожество и мелкий смысл своей любви и жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу