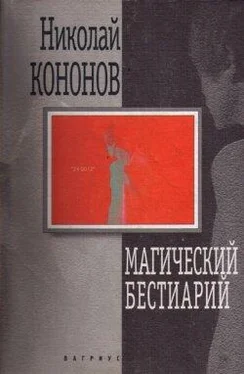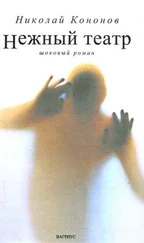Когда я угрем втерся в ранний автобус, скатывающийся юзом с нашей оледенелой за ночь Похуяровки, то в тихом перемате, колебавшемся между двумя тетками, разобрал непыльную историю. Ее сюжет покачивался, как лодочка, на тихих волнах матюгов. Как чьему-то папаше, толи Тоськи, толи Верки, – дали, пошутив, чего-то, стакан или чашку, и он, бедный, проспал трое суток, а проснувшись, покраснел, как рак, и его пришлось еще полдня чесать одежной щеткой. И это – мелкая каверза живой жизни, буравящая тишину в когнитивных сумерках моих сограждан. Тишина тишину творож ит. А зимним утром – твор ожит. О, сколько еще отверстий я видывал в суспензии нашей краины.
Скорые татарские похороны, долгие интернациональные свадьбы, которые не считаются за настоящие, если не было хотя бы одного, до смерти опившегося. Так и переходило все одно в другое: парки бабье лепетанье, порки детское кричанье. Это все уже многажды воспето в песнях русской скорби и радости, которая и есть, в конце концов, настоящая скорбь. Ведь так? И я много до чего додумывался, когда ехал на этом автобусе, а потом еще так же долго на трамвае.
Русский философский тезис той поры:
Давка – это церковь в праздник, все мысли устремлены вверх, если это только не очередь, а обычная русская давка. Страшно, как перед Божьим судом. И хорошо, что все вместе и пока еще друг друга не передавили. Всем одинаково одиноково. И мне… И мнннеее…
Да, ни ей, ни Селику об этом не поведать. Ты – высмеешь, а Селику разве только письмо с формулами: «Дивергенция давки как мировая конвергенция при N, стремящемся к бесконечности». N – это вообще-то я. А ∞ похожа на твой лифчик без бретелек, и ты в нем, моя Каллипига плоскогрудая, лучших форм, мягкая, как свежий снег на подоконнике.
В нише моего ума.
И я ни о чем другом не мог думать тогда. Даже эпюры казались мне твоими формами, а про знак интеграла я уже не говорю. Проинтегрировать от ступней до корней кудрей по законам твоей темно-белой эпидермы. Эх!
Я себя представлял Селиком, выступающим на конгрессе геометров. Амфитеатр слушателей убегает вверх. Я описывал твои части по функциональным законам. Но только в уме. Так как наяву все было иначе.
Я даже не очень знаю, как мне приступить к описанию, какие выбрать словеса.
Для меня все стало проблемой.
Рассказать мне об этом было некому.
Лучший дружок – пиздун и сплетник, чужие тайны из него стекали, словно ржавая струйка из сливного бачка. И он изначально отпадал. Да и вообще был ревнив, и каждый мой промах был для него райским наслаждением. И что я с этим человекообразным корешался… “У меня столько баб, столько баб….” А когда на спор уже курсе на третьем я предложил ему, никуда не заглядывая, в смысле, в книгу, а прямо здесь, при мне нарисовать в две минуты низ простой элементарной тетки в разрезе – он перепутал все отверстия, с каковыми был знаком лишь из школьной анатомии. Гад. “Одну так, другую эдак”. И перстом в фунтик ладони, как в мышиную норку, тычет. Но тогда мне было не до смеха.
Моя мама тихо пахала техничкой в техникуме за семь копеек в месяц. Заходящий раз в два месяца на огонек прямоходящий папаня проверял меня примерно в таком духе:
– Ну как, can , грызешь?
– Да, father , я у тебя уже настоящий гризли!
– Ну, грызи. Давай, чтоб не отгрызли! – Чокался он рюмахой и сваливал куда-то савойяром.
Его сурка, то есть сурчиху, я никогда не видывал.
Одним словом, Бетховен гребаный.
Чума ему товарищ.
А он и валял ваньку в противочумном институте “Микроб”. Сотрудник микроба… Ездил по окрестным степям и, напялив противогаз, отлавливал сусликов, от которых до сих пор и исходит эта опасность. Блохи впивались в сусликов, чучмеки сжирали сусликов, вкусных, как куры.
Папуле же мы настолько были неинтересны, что свои резцы он показывал лишь нашей рюмашке, из которой пивал горькую раз в два месяца или в три – по настроению. Да и были ли они у него, эти самые резцы? В полный рот он никогда не улыбался.
Так что я был have/бастард или полубайстрюк.
И моей душеньке не стоило меня этим шнуровать и шкурить. В смысле отцовства она была, или у нее было, не лучше. Ну, Селик. Викториин брат. А по-русски – дядя, дяхан. Да и у дяхана была только математика.
– Только он и математика, – шептала иногда Виктория заклинание, получив московскую передачку.
– И другие анализы, – зло выдыхал я.
Селикову Джомолунгму я не мог разглядеть даже в самый сильный бинокль.
Но он однажды нагрянул, как сель на наше мирное селенье.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу