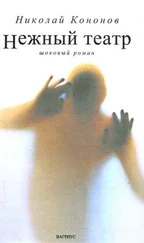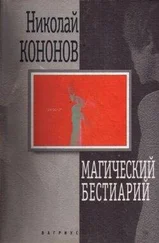И этот военный термин, это слово, так кстати возникшее, объясняет странную на первый взгляд моторику ее судорожного поведения, сонную прострацию, перемежаемую редким бодрствованием.
Ведь чтобы проявиться здесь, снова среди нас, легко подчинив пережитый в глубине бредового сна отрезок жизни идее гнездящейся повсюду порчи, ей достаточно повернуть крошечный шпенек на коробочке слухового аппарата. Он висит плоским медальоном на ее шее. Превратив таким механистическим образом эту обнаруженную сумму жизненных моментов в жалкую стратегию затянувшейся, длящейся в устойчивой синильной фазе жизни.
Ведь все видимое, ограниченное домашним комнатным горизонтом, сузилось для нее до размера туманного ореола сороковаттной лампочки. И кажется, вольфрамовая, сияющая желто-горячим светом слеза скоро совсем станет красным догорающим червячком, перед тем как издать сухой тихий древесный щелчок, стать взрывом, как в кино задом наперед, внезапно гаснущим светом сознания, чтобы заслонить все существовавшее этой последней вспышкой.
И молочному старчеству, читаемому в глазах бабы Магды, так с руки, так по-детски выпуклы и явны все моменты ущерба, как-то связанные с деньгами, облигациями, сбер-книжками, что везде ей слышится зловеще-шелестящее слово «завещание».
Отчего-то:
– Никогда нельзя делать завещание на двухлетнего ребенка. Все достанется государству, – басит она, угрюмо глядя в нашу сторону.
О нет! Государству ничего не достанется, все ужасы нашего разбомбленного быта достанутся нам.
Все-все ужасы и кошмары, кроме, пожалуй, последней крохотной пунктирной полустертой неуловимой и неуловленной нами депеши дыхания.
Ее мы с мамой никогда уже не получим.
Она никогда до нас не дойдет.
Так как в этот миг мы опрометчиво находились в другой комнате и тихонько обсуждали бред бабы Магды.
А все в этот миг-то и произошло.
Бабушка лежала дикая – лицо ее набрякло нехорошей, отвратительной синевой, рот, полный черной вязкой крови, был широко раскрыт, и скользкий ручеек тек по ее щеке на подушку, на голое плечо, к которому безвольно склонилась, сместилась голова, и он тек, очевидно, гадким, омерзительным, не из здешних одомашненных сюжетов узеньким руслом, черно-бордовый, липкий, канализационный, как казалось на первый взгляд, несмываемый и тяжелый.
И открытый рот, из которого выливалась, вываливалась эта густеющая жижа, словно из кем-то поваленной набок глиняной широкой крынки, свидетельствовал о том, что и дыхательное горло, и легкие, и вся она была полна этой омерзительной массы.
Я мгновенно подумал об этом, ужаснувшись тому, что ведь розовое дыхательное горло не выносит даже мельчайшей посторонней капельки.
И сравнение с крынкой не несет в себе ровным счетом никакого смысла.
Так как все переместилось мгновенно и мощно за горизонт видимого и сопоставимого.
И там действуют совсем иные пугающие невычисляемые ракурсы гибели, проекции уничтожения, тени температур, легко оплавляющих все-все вещества, там дрожат мощные смычки, извлекающие не звуки, а урчание, слышимое сейчас самим моим спинным хребтом, и что все это вызывает не морозец, а настоящий хрустящий новокаиновый, насильно кем-то, помимо моей воли, привнесенный холод во все мышцы моего тела.
И я даже не знаю, похоже ли это на ужас. Надо ли этому ужасаться. Или я уже давно перешел эту грань, как живую садовую изгородь подстриженного боярышника, и весь уже им, этим хладом, обуян и охвачен.
Вот так.
И слова мои определенно точны.
«Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое...»
Что тут произошло, что тут творится, чьими руками...
Я не успеваю дочитать до конца...
Я понимаю, что значит – «испустить» Дух.
Мне страшно, но я не могу отвести взора.
Мама кинулась, метнулась, как буран, рванулась, как пурга, в другую комнату за полотенцем, кто-то, может быть, рекомендовал ей им воспользоваться или ей почему-то в эту минуту почудилось, что надо им воспользоваться, хотя речь, конечно, идет не о минуте, а о совсем кратком промежутке времени, но огромном по своему удельному сгущению, по актуальности для моей съезжающей с этого сюжета сейчас забалтывающейся памяти; так вот, она кинулась за полотенцем, она бросилась за полотенцем, белым и вафельным, специально приготовленным для этого случая, для этого подступившего мига, за полотенцем, каковым, оказалось, совершенно необходимо подвязать отваливающийся подбородок мгновеньем раньше скончавшейся бабушки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу