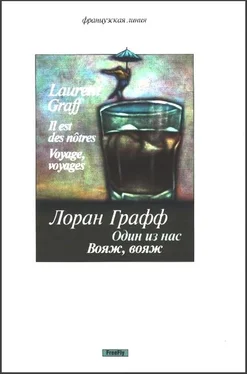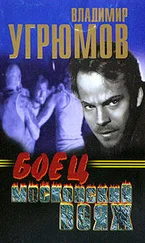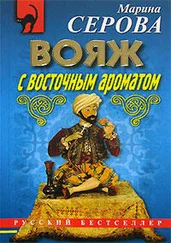«Где вас высадить?» Морис подошел к завершению рассказа о собственной персоне и как раз доехал до дома, где ему предстояло писать новые главы своей жизни. Арсен немного помолчал, а потом с самым простодушным видом сказал: «Высадите меня здесь». Два человека расстались, так по-настоящему и не встретившись, они просто какое-то время ехали вместе, провели отрезок жизни рядом.
Он продолжил свое нелепое странствие. И чем дальше он шел, тем меньше в его действиях оставалось смысла. Столь разумный, столь предсказуемый в обычное время, сейчас он походил на сумасшедшего. Что же за безумие охватывает тебя порой?
Здравый смысл тебя покинул. Тот самый здравый смысл, который правит миром, заставляет тебя действовать машинально, отождествляет с большинством; навязанный синтаксис, лишающий тебя уникальности. Теперь ты вне общества, на обочине истории, перед тобой чистый лист и дорога без разметки, это и есть царство свободы и поэзии.
Он проходил деревни, там его принимали за чужака: он им и был. Здесь люди говорят «чужак», а подразумевают «тронутый», поэтому, когда он покидал деревню, вслед ему летели обвинения в самых страшных напастях. На него смотрели как на марафонца, только вот он не бежал. Хотя нет, именно что бежал, несся навстречу собственной гибели — нет сомнений, что он кончит в дурдоме или тюрьме, если не умрет еще раньше, «ну разве не печальное зрелище». На него оборачиваешься, когда он заходит в кафе, чтобы заказать пива у стойки, никто не знает, чего от него можно ожидать. На него поглядываешь украдкой, когда он стоит спиной или смотрит непонятно куда — он похож на наркомана. К нему относишься с подозрением. И громко смеешься, не сомневаясь в поддержке окружающих, когда он спрашивает, далеко ли еще до моря. Вслед ему бросаешь взгляды, тяжелые как камни. А стоит ему уйти, принимаешь снисходительный и грустный вид — так, для очистки совести, это совсем не трудно.
Он шел и шел, все дальше и дальше, неся свой портфель — столь же неотъемлемый атрибут, как трость и котелок для Чарли Чаплина, — словно каторжник, тянущий свою лямку. Но с наступлением вечера его одолела усталость, и он забылся. Он находился между двумя деревнями — сколько километров он уже прошел? — и никак не мог решить, повернуть ли обратно или продолжить путь. Почувствовал, что не сможет выбрать. Тем хуже, он будет спать под открытым небом. Он огляделся. Со всех сторон простирались пустынные поля, бескрайние, как море, где волнами вздымалась распаханная тракторами и отравленная удобрениями земля. Единственный буй, торчавший на бесконечной глади, издалека напоминал человека. Он перепрыгнул канаву и направился туда — как он и думал, это было пугало.
Посреди поля, напоминавшего гигантскую свежевырытую могилу, он уселся на землю, прислонившись к кресту, на котором болталась тряпичная кукла в ночной рубахе, лоскутья которой падали ему на плечи. Пугало нависало над ним: руки-палки, голова, словно изуродованная ожогами, — обтянутый тряпкой пук соломы с намалеванным лицом, растекшимся, как тушь для ресниц, на котором уже и не разобрать, где нос, а где рот, в чепце а-ля Безумные годы [1] Период во французской истории с 1919-го по 1929-й.
, придававшем пугалу сходство с жалкой танцовщицей, пляшущей на рассвете чарльстон. Для Арсена ночь только начиналась.
Вопреки всякому ожиданию, он неплохо выспался, устроившись на своем неудобном ложе из земли и булыжников. Свернувшись калачиком, он мирно храпел в изножье охраняющего его чучела, призванного отпугивать птиц, когда отпугиваемые воробьи уже вовсю зондировали почву в поисках зерна, — уж чем-чем, а танцовщицей чарльстона их не напугать. Арсена птицы и вовсе не боялись, принимая его за ветку или какое иное препятствие на своем пути.
Только когда над его головой пролетал самолет Каир — Париж, прибытие которого ожидалось в восемь тридцать утра, Арсен открыл глаза — лайнер, опаздывавший на двадцать минут, оставлял за собой в небе тонкую полосу белой краски, немедленно таявшую в тропосфере, насыщенной растворителями. Взору его предстал червяк, который, высвобождаясь из земли, словно отплясывал перед ним танец живота, поигрывая брюшными мышцами и будто бы улыбаясь, чтобы скрыть усилия. Он замер, поглощенный этой сценой из жизни микромира, разворачивающейся между земляными комьями, он проникал в миниатюрный мир насекомых, превращаясь в одного из его обитателей. Он был мокрицей, взбиравшейся на гору, боровшейся с травинкой, огибавшей бездну, и, выбившись из сил, остановился отдохнуть на выступе. Оттуда он любовался горизонтом, поле казалось ему бесконечным, а дорога вдали — как минимум краем света. Один взмах ресниц, и мокрица обрела человеческий рост.
Читать дальше