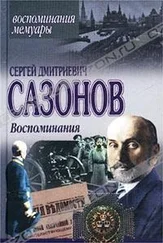Орлово Гнездо — это холодно вскипающий ключ, что отодвигает маленькие камешки и зябко, прозрачно вздрагивает в смородинных кустах и рождает истоки Малой Медведицы. Их много здесь, крохотных, тридцать три, а может быть, по тридцать три раза тридцать развеселых кипящих ключиков, и они заполнили собой низину. Зимой над ними, над ветлами и ольхой клубился пар, и раньше всего здесь, на Орловом Гнезде, расцветает орешник, золотя пыльцой синеватый снег.
Громадная у деда изба — избища, не видно, что прячется в углах, сруб дубовый, вековой. Дикий хмель, нависает над окошком, цепляется за стены и прыгает на крышу. В хмель заплетается вьюнок, гудит там пчела, и свешиваются черные мелкие виноградинки. И стоит та изба на светлом согретом пригорке, под рябинами и старой грушей, а на широком дворе пофыркивает лошадь и взбрыкиваем жеребенок; неподалеку приподнялись ульи, и в клевере, в душице, в густых малинниках купаются пчелы.
Дед никогда не запирает дверь, она откинута настежь, и запахи леса наполняют избу, посреди которой дед сложил печь, широкую — хоть на телеге заезжай, сложил из камня-дикаря, что был разбросан по лесу с допотопных времен.
Вечерами дед Захар редко зажигает лампу. Перед избой он разводит костер, прикидывая туда мелкие чурочки искромсанного корня; те обугливаются и долго дышат жаром в темноту. На костре дед готовит в глиняном горшке кашу-полевуху из пшена и картошки.
— Ужинать, — тихо зовет дед, и мы усаживаемся вкруг костра на теплую, неостывшую землю. Пар валит из горшка, но в деревянной ложке каша-то не больно горяча, знай поддувай слегка.
А потом, опять же не заходя в дом, пьем чай из самовара. Дед пьет его долго, истово, порой сбрасывая с себя рубаху, оставаясь в исподнем. Из-под пепла мигают угольки, выпрыгивая лучиком, искоркой, тьма становится плотнее и будто прикасается к тебе, под крыльцом принимается скрипеть-похрустывать сверчок. А лес и не думает засыпать. В его глубине рождаются неясные, настороженные шорохи, они просачиваются к нам, к костру. Треснет кора, обломится сучок, зашуршит в листве жучок, прогудит, падая в траву, вскрикнет но сне птица, и так всю ночь, до первой капли рассвета, до светлого пятнышка утра.
Лес все время жил, но не как люди, он будто не уставал, не отдыхал и не засыпал, он все время полон — или зеленью, плодами, ягодой и желудем, или цветом, открывающимся листом, или снегом в метельные зимы и даже ветром, гулом ветра. Он наполняется светом и тенью, солнцем и луной, змеиным шипением и пронизывается птичьей песней. Живой он, конечно, живой.
К ночи налетел ветер, качнул вершины, упал на осинник и загудел лес. Из самых глубин гула, из самой чащобы глухо ударило по стволу. Дед приподнял голову, повернул туда-сюда, вслушался. Вновь ветер принес удар, гулкий и тяжелый, но уже с другой стороны. Потом удары стали четко различимыми, равномерными, как биение сердца.
— Раз… два… три… бум, раз… два… три… бум!
— Не боится ведь, а? — удивленно протянул дед. — Ведь не боится!..
Ночь словно загустела и, оживая в ветре, окружила избу, заворочалась в скрипе в шорохе веток, и кажется, что она заполнила все — проникла в гнезда, в дупла, в пустые стебли трав.
А дед все вслушивается в лес, поднимается, снимает со стены свернутую веревку и ныряет в ночь. Долго я жду его, а до меня все доносятся, доплывают по ветру удары, и они становятся все чаще, дробней, но уже не гулкими, а врезаются, секут, будто тонут в мякоти дерева, и то поглощает их, готовое свалиться. Скрип и тупой удар оземь — пала стволина. Никого не нашел в ту ночь дед, и во вторую ночь падали дубы, и только к исходу третьего дня дед привел в село Никанора.
Дед засыпает перед зарей, зыбкий у него, туманный сон. Скребет он пятерней могучие плечи, выпирающие ребра, скрипит, кашляет. Я тесно прижимаюсь к деду, к его сухому горячему телу, и мне покойно, слышу я, как гулко в груди его бьется сердце.
Дед поздно, в самую темень, вернулся из лесу и залез на сеновал.
Выловил он теперь Никанора Пандина, что рубил, не стыдясь и никого не признавая, колхозную деляну. Валил Никанор столетние дубы, кряжистые и темнотелые, и насмехался над дедом, хвастал перед всеми на селе, что «у старого хрена нюх навовсе пропал. Его теперича лучше в конуре держать на веревке. Нерчинска обмануть — все одно что пескаря выловить». Так он изгалялся над дедом, поносил его скверным словом и скалил зубы.
Неслышно и сторожко бродил за ним дед, пока не поймал у поверженного дуба. Здесь же дед и высек Никанора его же собственной веревкой за бессонные свои ночи, за обиду, а когда тот стал чересчур бойко обороняться, дед всыпал ему. Никанор сдался, но пригрозил, что подаст на деда в суд. Тогда, чтобы вредитель не беспокоил его, дед связал Никанора туго по рукам и ногам, как младенца.
Читать дальше