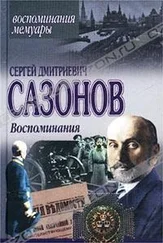— Эгей-гей… Стой-кось… дядя!
Надвигается кто-то на меня из тумана, гребя руками, будто выходя из омута на отмель, громоздкий и неуклюжий, но Шарик не подал голоса и не замедлил неторопливой рысцы.
— Табачку нету ли, дядя?
Тень наплывает все ближе, распластанная, кособокая и длиннорукая, и вот она пала под ноги, взгорбилась и враз присела, не успев напугать.
На высветленный бугорок, пыхтя, взобрался совсем маленький пастушонок, заспанный и конопатый, в рваной теплой шапке, уши у которой задрались лопухами кверху. У ног его клубилась собачонка, такая же курносая и вислоухая. Я, наверное, тоже показался ему огромным, и Шарик увиделся лошадью, так что Митяй уже вблизи непроснувшимся голосом хрипнул:
— Ух ты, мама родная, привиделось чего… Ты куда двигаешь, Петя-Петушок? К деду, что ли?
Табачок оказался в кисете, едко-зеленый пахучий самосад, и Митяй слюнявил бумажонку, взахлеб шмыгал носом и горячим красным языком долго клеил цигарку, и руки его, в цыпках, торопились.
Цигарка слепилась пузатенькая, и Митяй жадно затягивается, прикрывает глаза и раскидывает ноги, а табак взрывается там, в его тонкокостной груди, и от кашля дергается стеблистая шея.
— На-кось, курни! — протягивает Митяй замусоленную цигарку.
— Нет, — отвечаю ему, — не уважаю.
— Не уважаешь? — широко распахнул глаза Митяй, зеленые и хитрые. — Пескарь ты ишо. Курево — работе подмога! — повторил он чьи-то слова. Глаза его сузились, и стал он весь рыжий-рыжий и горячий, когда увидал в моем кулаке влажного от росы лягушонка.
— Глянь-кось, — зовет Митяй и достает из кармана банку из-под чая, а там, на зеркальном гладком дне, бронзовеет и отливает радугой могучий жук-носорог. Будто в кольчуге он, медленно перебирает лапками, жестко царапая по коробушке.
— Рог у него один, — прокашлял пастушонок, — меж глаз. Единорог он. Мена, а?
— За лягушонка?
— Нет, — улыбается Митяй, — с придачей. Единорог он, видишь?
За единорога Митяй выменял у меня две щепотки табаку, пирожок и лягушонка, изумрудно-зеленого и пучеглазого, с желтым ободком у глаз. Жаль мне его, ведь никто не знает, в какой лягве таится царевна.
— Може, это тоже не жук, — угадал Митяй и сплюнул от самосадной горечи, — какой-нибудь королевич, а? К чему он такой рог носит, скажи? А рог к тому, что он им землю роет, чего-то ищет. Знамо дело — чего? Клад… Сколько здесь кладов закопано, знаешь? — и повел рукой вокруг себя.
Над курганами поднимался пар, потемнели сочные, влажные травы, а из лесу закуковала, заторопилась кукушка, бросила свой зов над шиханом, в разгорающийся день.
— Кудеяры клады захоронили. Мне бабка все места приметами обозначила, — сообщил Митяй.
— А мне деда Кудеяров колодезь показывал, — похвастался я, но Митяй будто не слыхал. — Кудеяров колодезь! — крикнул я и заторопился, боясь позабыть. — Он на коне с Лоховой горы сиганул, когда генералы за ним гнались. Земля дрогнула, расступилась, и ушел он вместе с конем в землю-матушку. А счас колодезь там как след.
Собирались у деда дружки-старички, кадили цигарками за бражкой, небылицы всякие переплетали. Одни говорили, что кудеяры-то, «кудь» — племя, народ такой волшебный, «кудесный» был, да вышел весь, вымер. Другие поперек отвечали: «Неправда ваша! Небыль это! Прабабки моей бабка Кудеяра того видывала прямо в упор, понял?! Саженного росту, смугл лицом, но глаз имел светлый. И было у него на руке по шести пальцев — во! Силу каку имел, понял?» Всякое говорили дружки-старички, а дедов друг, Антошкин, ответствовал так:
— Курганы могет только племя, народ насыпать, в славе своей али в горе. А клады находят, право дело. Только клады-то из утвари ихней, из сбруи, из струмента, коим жизнь свою берегли. Кто знает, кудеяры они, али другие печенеги, аль татарские мамаи, — никто! Только знамо всем, что земля наша древнее древнего, и прошло по ней много-многово всякого люда из жизни во тьму, что теперь не узнать — откудова есть и пошел наш корень. И мог быть самоличным Кудеяр — кажный народ своего кудесника нарождает.
Говорю я это Митяю, что от дедов слышал, а Митяй смеется, щерится во весь рот.
— Ну… пошел я, — тихо говорю Митяю, — солнце во-он как высоко.
И я пошел. Прошел низинку, поднялся на шихан, пересек орешник, напился из ключа и вошел в тенистый лес. Дорожка привела к деду.
Дед срубил избу в лесу, за Орловым Гнездом, в Берендеевых кручах, у края Ягодной поляны. На севере крутогрудо навстречу ветрам поднимался шихан — Дева-Гора в непролазной, перепутанной чащобе терновника, барынь-ягоды и вишни.
Читать дальше