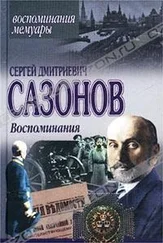— Мое почтение! — приподнял фуражку дедок. — Как здоровье, Филиппыч?
Дед Антошкин обращает к нам свое светлое, тонкое лицо в легкой, паутинистой бороде. Голова у него голая, блестящая и чуть желтоватая. Не испекло, не истрескало время его лицо, не запрятало в морщины, осталось оно неизменным, как сорок, как пятьдесят годов тому. Антошкину уже лет восемьдесят с лишком, но зубы еще целы.
— А, Захар, — улыбается Антошкин. — Внук-то скоро тебя ростом догонит.
Присели в тени, крутить цигарки начали, закурили — дым над головами закачался. Из села ягодой пахнуло, крыжовником и клубникой. Пчела пропела, петух крикнул, и бросились к нему куры.
— Полста лет тому, — выдохнул дым Антошкин, — лето таким стояло. Только гарь в воздухе носилась — леса, степь горели. Реки пересохли — голавли прямо на берег выпрыгивали. В лесу-то сушь, Захар?
— Сушь, — махнул рукой дедок. — Барсуки норы понарыли, а волчица с выводком к избе подходила — лакала воду из корыта.
— Гляди-ка, — удивляется Антошкин, — знать, засуха в нее вошла. Ты бы, Захар, людей каких взял али пацанов, чтоб в лесу роднички углубили — зверь без воды дохнет. Уйдет птица, червь весь лес обглодает.
Сидят старички, покуривают, неторопливо повели разговор — что было, что будет и вообще к чему жизнь приведет. Опустился дед Антошкин в погреб, в холодный ледяной полумрак, что с зимы здесь таился, вытащил корчагу медовухи, разлили кружки, крякнули, захорошели. Полную кружку поднесли Степану. Двумя руками принял ее Степан, удержал с трудом и потянул игристую бражку так, что заходил кадык.
— Голова кружится, — улыбается Степан. — Неспособный я бражничать, молоко я уважаю.
Трижды наполнялись кружки, хмель ударил в голову, потекли разговоры.
— Как сейчас помню, — гудит Антошкин в легкую бороду, — на спор с одним турком ведро вина выпил. Был я в ту пору в Турции, в Анатолии, в плену. Взяли меня незадолго до Шипки, скрутили веревкой и прогнали пеше, по пыльной дороге. В Турции, сам понимаешь, Захар, турки живут и всякий другой народ, армяне, ассирийцы, черкесы али кто. Так вот они меж собой по праздничкам резню устраивают. У нас, понимаешь, кулашный бой или борьба, а у них все больше ножик, кинжал острый. Я в кузне ковал и не столько плуги там, лемеха выковывал, сколько сабли и другое острие. Боролся я с имя по-русски, бросал на лопатки. Два года у них побыл, надоело, перебрался в Грецию, а оттуда пешком домой подался. Разглядел я всю эту Европу в упор…
— Так сколь же ты там был, Филиппыч? — спрашивает дедок.
— Околь трех лет. У французов побывал — бонжур, шер ами, у немцев — швайн, гутен морген, у поляков, мадьяр. Ни в одной ты книге не найдешь того, что я увидел во время скитаний. Думал, подохну от тоски, от говора ненашего, от речи, порядков чужих. Пешком шел. Палка у меня в руках, за спиной мешок. Приходишь в село ихнее, к пивной или складу какому: «Есть работа?» — «Русский?» — спрашивают. — «Русский», — говорю, — «Ну, давай, чисти нужник али свинарник!» «Ладно, — думаю, — меня такая работа не принизит, ибо я в чужой стороне». В русских, Захар, весь мир силу чует, побаивается задирать, но иной попадется — наизмывается вдосталь.
— Разве мы вред кому причиняем? — удивленно спрашивает Антошкина Степан Мелентьев.
— Слабый завсегда завидует сильному, — рассуждает дед Антошкин. — Вольному да веселому.
Беседуют потихоньку старички, про турка да про немца, про финна да поляка. Степану все разговоры в диковинку, да и Никанор рот разинул — не могут они охватить всю ширину жизни.
— А я вот, дед Антошкин, из зверей только одну козу да корову знаю. Никогда тигру не видел, ни слона, — вздыхает Степан. — И не увижу. Когда человек ползает, видит он перед собой лягушню всякую да червей, падалицу да лист отмерший. Ты мне скажи, Филиппыч, какой мне смысл дальше жить и к чему я доползу при такой жизни?
— Любая жизнь человеческая — благо! — прогудел Антошкин. — Земля и солнце порождают жизнь из темноты и света, из холода и жара. Не из пустоты, не из тлена и навоза родится человек, и принадлежит он земле и не имеет права уйти в землю прежде времени…
Я тебе одно скажу — никто не может поднять руку на человека, чтобы его жизни вольно или невольно лишить.
— А тогда мне растолкуй, — зацепился дед. — Вот какая со мной история случилась.
И рассказал Антошкину о том, как стреляли его в лесу, и приводил в свидетели Никанора. Удивился сильно Степан, встал на четвереньки, пробежал двор из конца в конец, сел, вновь вскочил. Округлились, зажелтели у него глаза, рот округлился — не поняли, то ли крик, то ли стон рвется…
Читать дальше