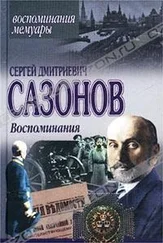— Правда одна, — отвечает дед. — Правда то, что — благо. Корявая она, неудобная, непокойная. Совесть она.
— Но в каждом человеке — в тебе, во мне, вон в Петьке — каждое понимание совести живет. Ясно тебе? Ежели бы одна правда была, то мир бы с потопа гладкий был, без словоблудии, без смерти, без надрывности. Ведь от солнца тень, а не от тени солнце. И вначале туча, а опосля дождь. Не суди, Захар Васильевич, людей прямо, жизня по кривой взбирается.
Ни о чем они тогда не договорились, два старых, уперлись лбами, и каждый бил другого правдой и неправдой своей.
— Ты на погост, и я на погост, — сказал Ягерь, — жизни у нас прожиты, пробежали деньки золотые, пускай молодь правду свою найдет, но только га правда уже не для нас, не приму я ее. — Так сказал Ягерь и выдернул окунька. — Ведь человек часто только по привычке живет — и все тебе.
Вот к нему-то в огород и сел рой, когда мы с дедом читали Робинзона. Ягерь усмотрел в рое манну небесную и быстренько сгреб жужжащий комок.
— Эх, проворонили, — говорю деду. — Теперь мы на пчел не имеем никакого права. Но деда словно подменили — он стал несправедливым и злобно-упорным. Взял бы кто другой, но не Ягерь.
— Морду набью! — рявкает дед.
— Не отдам! — вскрикивает Ягерь.
— Деда… не бей, — отталкиваю деда.
— Сделаю из тебя козью морду, — грозит дед.
Не отдал Ягерь, а смастерил колоду-пенек и подсадил к своей пасеке.
И тогда дед наладил с десяток крючков да петель и по утрам, на ранней зорьке, начал ползать под плетнем.
— Цыпи… цыпи… — ласково подзывает он, — цыпочки, милочки… цыпи… цып. — И куры-дуры полезли в петли, насаживались на крючки, дед отвертывает им головы и бросает на плетень.
— Варнак! — взвизгивает Ягерь.
— Душегуб! — ухает пожарничиха.
— Кобеля спущу, — грозит дед, — в открытую пойду.
— Поднявший меч от меча и погибнет! — выпрямляется Ягерь.
— А кто мечи поднял? Отдай немедля рой, по-соседски!
— Не выйдет! — кричит Ягерь.
— Сейчас выйду, — и дедок выкатывается с двустволкой.
— Не моги! — трепещет пожелтевший пожарник. — Не моги! — шепчет он. Дед медленно поднимает ружье. Ягерь не может шевельнуться, очарованный черным глазом ствола.
Дедок, удобно опершись на плетень, наводит мушку на уровень переносицы соседа. На Ягеря надвигается что-то непоправимое…
— Возьми, — пискнул он.
Дед убрал ружье.
— Ну, то-то, — заявляет он. — Добром-то всегда лучше.
Дед был не прав, он напирал силой. А где сила — разве там живет правда?
Не знаю, может быть, Ягерь и был добрым, но добрым к своим, к своему Игоне Бешеному, к Груне и Кате Комолой. Но не везло ему с детьми, он почему-то стеснялся их, что ли, мало упоминал в разговоре или враз замолкал. Он хотел им счастья, так же как мой дед и бабка. А каким представляют люди счастье? Каково оно? Каким оно глядится в твое лицо и каким оно тебе видится? У всех оно было — ведь было наверняка! — и у деда с бабкой, и у Антошкина, и у Кирзового. Когда говорят о нем, у всех тоньше и светлее становятся лица, как будто оно было давным-давно.
Они оставляли счастье в прошлом, и оно жило там, как навечно спрятанный клад, к которому помнится тропа и запомнилось место, но нет сил, невозможно вернуться. Не в человеческих это силах. И у всех этих людей в их понимании счастья светилось одно: молодость, черемуховый цвет, росная тропа под радугой и любимый.
У них у всех была любовь! — вот в чем дело, о чем я никак не мог догадаться, не мог понять, ибо не чувствовал и не знал, что это такое. И какой бы она ни была — легкой ли, или мучительно-стыдливой, или ликующей, а может быть, вымученной, — но она была, да-да, была и пряталась сейчас там… у кого где: или в курганах, в лунных ковылях, или в полынном жаре, или в родниково вскипающей чистоте. Пряталась, уходила, но не ушла навовсе, а нет-нет и возвращалась, пусть ненадолго… Не знаю я, какую силу имеет эта любовь и как она связывает людей или растаскивает их в разные стороны, на разные берега, которым не суждено сомкнуться.
Вшивый мосток ветхо, скрипуче повис над пескариною речушкой Теплой. На телеге к мостку уже не проехать — шатается он гнилым зубом, пружинит, перекатывается бревнышками, но каким-то чудом держится. Коровенка ли пробредет, телок ли протащится — стонет, вздыхает мосток. Сразу за ним, через неглубок кую канавку, открывается неширокий, тихий проулок, прозванный Собачьим. Жил здесь в давние времена Фрол Собачий, угрюмый рябой мужик, неразговорчивый и одинокий. Вылавливал он на селе и окрест бродячих, брошенных собак. Шил из псовых шкур рукавицы, шапки, тулупы да бурки-унты, торговал собачьим салом — угождал тем, у кого ломило в груди и были слабые легкие. Знал Фрол Гаврильев приговорные слова, собаки сами брели за ним тенями, лезли в петлю. Выли потом в сарае на все село, орали и ревели ревом до жути, будто чуяли свой смертный час. Оттого и проулок прозвали Собачьим. Собак — сейчас вылавливает татарин Исхак, но сала не топит — шкуры в город сплавляет.
Читать дальше