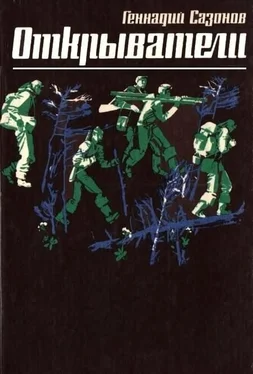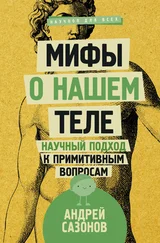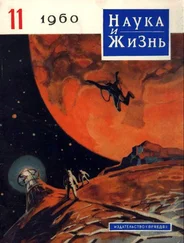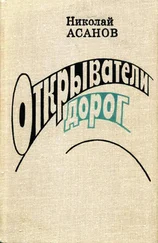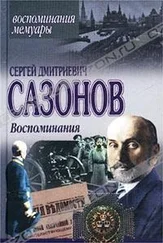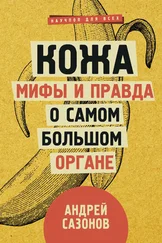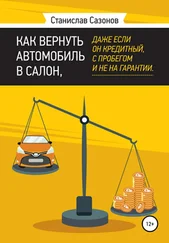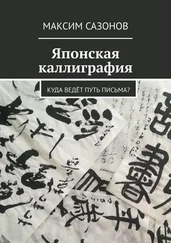Тихо подходит дед к дому и долго-долго смотрит в степь, откуда рождается и приходит день, светлый и влажный от рос.
Верность тропе
(Послесловие)
Обычно молодой автор становится одним из первых покупателей своей книги. А когда летом 1965 года а Свердловске вышла первая книжка новелл Геннадия Сазонова «Привет, старина», он при всем желании не мог ее купить — его геологическая партия вела поиск за сотни километров от ближайшего книжного магазина. Лишь поздней осенью, вернувшись в Тюмень, молодой геолог увидел свой сборник-первенец. И, как теперь вспоминает, больше, пожалуй, разочаровался, чем обрадовался: совсем тоненькая получилась книжка, всего в четыре десятка страничек… Но в общем-то на издателей Сазонову обижаться не приходилось: путь от самого первого его рассказа «Хасырей», напечатанного в «Тюменской правде», до книжки занял два года. Совсем немного для человека, который приехал в Сибирь, и не помышляя ни о каких литературных опытах.
Родился Геннадий Сазонов в 1934 году в селе Красный Кут Саратовской области в семье агронома. Потом семья переехала в другое село — Тепловку, на правобережье Волги. Там и прошли школьные годы — суровая, трудная военная и послевоенная пора.
Когда кончил десятилетку (туда приходилось ходить за восемь километров в райцентр), поступить в университет «с первого захода» не удалось. Устроился в каменоломню, благо силенкой природа не обидела. «Крушил ломом и кувалдой девонские известняки с панцирнымн рыбами, трилобитами и отпечатками невиданных растений — вламывался в будущую специальность», — об этом он сегодня рассказывает с усмешкой. Ближе к зиме избрали Геннадия в райком комсомола, поручили оргсектор, и исходил он в те месяцы родной район вдоль и поперек пешком и на лыжах. А осенью пятьдесят третьего года прощупанные ломом породы стали предметом изучения — Сазонов поступил на геологический факультет Саратовского университета.
Студенческая практика на Тюменском Севере, куда Геннадий попал после третьего курса, летом 1956-го, многое определила в судьбе молодого волжанина. Об этой первой своей встрече с Сибирью, с ее людьми, с таежными просторами Сазонов рассказал потом, два десятилетия спустя, в повести «Мамонты и фараоны», где, конечно же, немало автобиографичного. Так же, как парни в повести, вручную бурил он с товарищами скважины, рыл шурфы, продирался сквозь чащобы — правда, в отличие от своих персонажей, найти в вечной мерзлоте тушу мамонта будущему автору, увы, не привелось. (Да и вообще без этого экзотичного, хотя и достоверно нарисованного мамонта, наверно, вполне можно было бы обойтись — ведь повесть привлекает именно правдивостью, неподдельной яркостью впечатлений героев, «заболевших» Сибирью, по-новому открывших для себя в этом северном походе не только истины геологии, но и собственные характеры.)
Для сегодняшнего молодого читателя «Мамонты и фараоны» — это уже история, такая же отдаленная, как первый на Тюменщине газовый фонтан, о котором спорят персонажи повести, или шлепающий плицами старенький пароходик, везущий их по Иртышу и Оби. Но для Сазонова и его товарищей то время — неизгладимый рубеж, с которого начинались сибирские страницы их биографий. Знаменательными словами кончается повесть: «Мы еще вернемся сюда. Вернемся и пойдем дальше. Этой земле нужно так много человеческого тепла».
И Сазонов вернулся. Сначала собирать материал для дипломной работы о нефтегазоносности Березовского района. А в 1958 году, окончив университет, попросил направление в Тюмень. Работал на Полярном и Приполярном Урале геологом, затем старшим геологом, начальником отряда. И чем больше накапливалось впечатлений, тем сильнее хотелось рассказать об увиденном и пережитом. Так появились первые коротенькие новеллы-зарисовки Геннадия Сазонова — о северной природе, о встречах на таежных тропах, о романтике геологического поиска и негасимой надежде открыть новые подземные тайники, надежде, которую «несем мы весь маршрут, порой одну в пустом рюкзаке».
Была в этих миниатюрах — завязях будущих рассказов — поэтичность, взволнованность, свежесть красок, но были и «декламационные» красивости, эскизная торопливость рисунка. Да и прямолинейность мешала — например, в давшей название первому сборнику новелле «Привет, старина», где автор накоротке обращался к «старине Уралу» со словами привета «от геолога, пришедшего приручить тебя». В общем, радуясь дебюту, Сазонова, его друзья и коллеги не очень еще верили в его литературное будущее. Хватит ли у него, при всей загруженности основной работой, творческого дыхания, упорства в художественном освоении неохватного жизненного материала, который раскрыли перед вчерашним волжанином северные маршруты?
Читать дальше