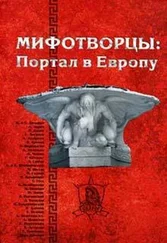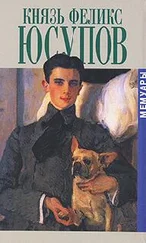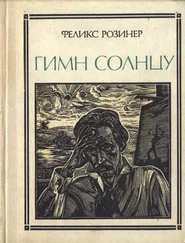К Ольге я не пошел: не хотел пойти — и хотел, стыдился — и уговаривал себя, тянул, нервничал — и не пошел.
С некоторых пор у меня продолжалась какая-то длинная стихотворная вещь: поэма не поэма, пьеса не пьеса — диалог, вернее, ряд монологов, где было два героя — Он и Она. Я не очень-то понимал, что именно у меня получается, поэма сочинялась большими кусками, разом, будто в горячке, и многое там было, как мне казалось, вовсе бессвязным. Но я ничего не трогал, не поправлял, к написанному не возвращался и копившуюся груду черновиков даже не перечитывал. Теперь все вдруг остановилось, за две или три недели я не написал ни строчки.
Лето — мглистое, душное и дождливое — кончалось, вдруг похолодало, и это была уже осень — в тех же дождях, но с ветрами, от которых в тот год, не успев пожелтеть, все быстро пожухло и обезлиствело.
Как-то под утро усталый и безразличный больше, чем обычно, я вернулся с ночного дежурства в редакции. Вошел в комнату, не зажигая света, как был в мокром опустился на краешек койки, прислонился к железным прутьям спинки, и сон тут же стал одолевать меня…
За мгновенье до того, как окончательно провалиться в пустоту, совершенно отчетливо, будто это было прочитано мною или кем-то сказано вслух, мое сознание зафиксировало ясную мысль, что я сейчас же должен идти к Ольге. Она — я знал это — стоит у себя в коридоре у наружных дверей, ждет, чтоб открыть мне еще до того, как я позвоню…
От беспокойного сна, точнее, как мне думается, от беспамятства, я очнулся, ощутив, что на меня надвинулось несчастье, и надо бежать — от него?.. навстречу ему?.. Я вскочил с места, бросился к двери, рванул ее на себя, она не открылась.
Мало что соображая, забыв, что сам же ее запер, я стал дергать за ручку еще и еще, наконец торопливо схватился за ключ, но пальцы не слушались, ключ застревал в скважине. Каким-то образом дверь все же распахнулась — на пороге стояли двое и настороженно смотрели на меня. Видимо, я не владел собой, потому что крикнул «пустите!», — хотя они еще не держали меня. Но едва я крикнул и захотел увернуться, протиснуться боком, невидимкой, и скрыться от них, меня схватили и, с настойчивой ласковой легкостью держа за шинель, повели. Лейтенант, по одну сторону от меня, волновался, он семенил и повторял «с нами… с нами… ничего, ничего», а по другую — пожилой старшина вздыхал и, мотая головой, тихо матерился.
Вплотную к ступенькам крыльца был подогнан штабной газик, меня несильно в него подтолкнули, и машина помчалась по городку. Я мог только слышать, как одна за другой проскакиваются лужи, мгновенно распоротые, будто куски старой, непрочной ткани. Резко свернули раз и другой, сбавили ход, в ветровое стекло я увидел ворота какого-то пакгауза. Они раскрылись, и газик въехал под них, гулко оглашая работающим мотором огромное пустое помещение. Дохнуло затхлым, застоявшимся холодом, наружный свет померк, и шофер включил фары. В их мертвом свете стала приближаться противоположная стена, каждый кирпич на которой очерчивался неестественно четким прямоугольником. Эта картина — стена, освещенная с безумной яркостью и воспринятая мной как что-то бесконечно длящееся вверх, вниз и в оба края, — была последним, что я видел. Свет выключился, и ослепленный, потерявший всякое представление о реальности, я двинулся с теми, кто повел меня. Тяжелым железом поблизости проскрежетала, повернулась на петлях дверь, меня за нее впустили, снова раздался скрежет, мне было торопливо сказано: «Пока что будь…» — и я услышал, как запирают.
Почти сразу же где-то над дверью зажглась тусклая лампочка, но я не успел даже осмотреться. Потому что теперь, после апатии и отрешенности на меня напал приступ бешенства. Стуча сапогами и кулаком, наваливаясь на дверь всем телом, я принялся сотрясать ее с каким-то сладострастным чувством от того, что я могу греметь, орать, буйствовать, сколько мне угодно. Конечно, мне не отвечали, и, соображай я в тот момент хоть немного, я бы сразу понял, что упекли-то меня в этот двойной кирпичный мешок для того именно, чтобы обо мне не было ни слуху ни духу, чтобы, сидя здесь, я как бы не существовал.
Устал я или успокоился немного, но стучать мне надоело, я увидел у стены деревянную лавку, повалился на нее и как убитый уснул.
Сколько проспал, не знаю. Думаю, что долго, так как, проснувшись, обнаружил, во-первых, что у меня незаведенные часы, а во-вторых, на табуретке, появившейся у дверей, скопилось три порции холодной, обветрившейся каши, и было немало хлеба. Я поел, потом снова уснул, а дальше началась бессонница — жуткая, затяжная, измотавшая меня едва ли не до полного помешательства. Во всяком случае, когда входил солдат, носивший мне еду, я ничего не мог спросить у него — только мычал. Но и спрашивать не стоило. «А, проснулся, — сказал он, когда я увидел его в первый раз, — вот и хорошо. Только, брат, слышишь? — не приставай ко мне зря-то: я и правда не знаю, за что они тебя, да и отвечать тебе не велели. Ну их всех к матери!» К тому же, солдат меня побаивался, как психа.
Читать дальше