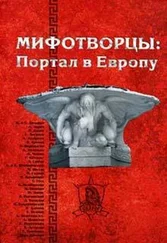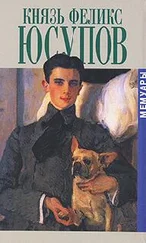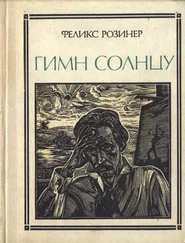Далее следовало письмо слесаря завода металлоизделий. Слесарь начинал с чувства возмущения, которым он был охвачен, когда читал в газете про тунеядца Финкельмайера. «Я интересуюсь поэзией, люблю ее. Поэт Финкельмайер? Я и мои товарищи по бригаде, — а мы народ не темный, мы все имеем или законченное среднее образование или еще продолжаем учебу в школе без отрыва от производства, — мы всей бригадой заявляем: нам, рабочим людям, не нужен такой, с позволения сказать, „поэт“. Пусть-ка поработает руками, узнает, что такое настоящая поэзия трудовой жизни!»
Следующее письмо начиналось со слов: «Я работник умственного труда». Его написала учительница. Она размышляла о долге интеллигенции. Особенно восхищал ее подвиг безымянных ученых и инженеров, способствовавших тому, чтобы весь мир увидел улыбку Юрия Гагарина. "А таким, кто позорит звание советского интеллигента, я хочу сказать прекрасные слова великого Н. А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Ниже писем, отбитое тремя звездочками, шло краткое сообщение:
«Выездное заседание суда по делу А. Финкельмайера состоится завтра в Доме Культуры работников пищевой промышленности. Справки по тел…»
XXXVII
Было уже почти совсем темно, когда Финкельмайер вслед за милиционером выпрыгнул из закрытого фургона. Они очутились посреди захламленного двора, рядом с кучей различного клубного вздора — поломанной мебели, размалеванных и отслуживших свое фанерных стендов и марлевых декораций… Милиционер — симпатичный круглолицый старшина озирался в растерянности: куда идти, он не знал, спросить было не у кого.
— Ты шофера пошли, пусть разузнает, — посоветовал Финкельмайер.
Старшина обрадованно подбежал к кабине, шофер вылез, подергал одну и другую из выходивших на двор дверей, наконец нашел незапертую и скрылся. Через несколько минут он явился с суетливым человечком, который был без пальто, в одной лишь меховой шапке.
— Я директор, — сказал он, — здрасьте. Знаете, столько дел! — принялся он оправдываться перед старшиной, — мероприятие-то для нас… гм… необычное… людей не хватает, не успели вас встретить. Проходите сюда, проходите!
Финкельмайер шел за директором, старшина позади. Поднимались довольно долго по узкой едва освещенной лестнице — за кулисы, на сцену, объяснил директор.
— А вы не в курсе, как устраивать для него, — он посмотрел на Финкельмайера, не зная, как назвать — заключенный? подсудимый? арестованный? — Не в курсе, слева от суда или справа?
— Я до этого не касался, — ответил старшина. — А у судьи чего не спросите?
— Совещаются.
— По-моему, справа, — сказал Арон. — Смотрите: правосудие!
И засмеялся. Директор посмотрел на него с недоумением.
За кулисами пришлось стоя ждать едва ли не с полчаса. Арону отчаянно хотелось есть, и от голода начинала побаливать голова. Сновали вокруг здоровые парни с повязками на рукавах и со значками дружинников. На Арона поглядывали с интересом, он же смущенно наблюдал за общей мельтешней. Тащили мимо стулья, пронесли графин с водой и красное полотнище, от зала, через закрытый занавес, доносился глухой многолюдный шум — и все это было связано с ним, с Ароном Финкельмайером! Он оказался в центре общего внимания, и получалось, будто ему воздаются почести, которых он вовсе не достоин, а это так некрасиво, когда из-за тебя собирается столько людей, когда вокруг тебя столько волнений, и если б он мог, извинившись, уйти тихонько, и все смогли разойтись и заняться чем-то другим, а не его персоной, то он бы, конечно, ушел, но зная, что это нельзя, что ему придется еще какое-то время быть в этой своей некрасивой роли, он ощущал, что ему сейчас вовсе не нужно быть, сознавать свое существование, но поскольку он все же здесь был и существовал, то эта его некрасивая роль стала мучить его как вина — постыдная, жалкая, неисправимая. Лицо его приобрело растерянное выражение — такое, словно он, толкнув кого-то, хотел попросить прощения, но не успел, потому что обиженный им человек прошел дальше, и теперь остается только переживать допущенную неловкость. Со стороны, однако, это выражение растерянности вполне можно было принять за обыкновенный страх, тем более что Арон являл собою действительно жалкое зрелище: небритый, исхудавший, костюм измят, сорочка несвежая, на ногах — истертые войлочные зимнушки…
Подбежал директор и нервно сказал старшине:
— Пора, говорят. Велят идти!
Боковым проходом вывели их в зал, близко от сцены, мимо первого ряда сидящих. Поблизости женский голос произнес со вздохом:
Читать дальше