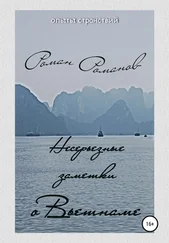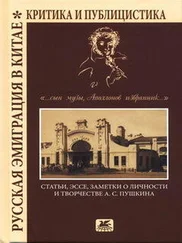Получилось опять неудачно. Я подкинул в огонь еще несколько досок от старого шкафа и вновь призвал:
— Приди, Солнце, стол накрыт для тебя. Все деревья, травы, звери и люди, все моря и реки ждут, когда ты схватишь их жаркими дланями, поднимешь до жадной пасти, к небесным устам; приходи есть и пить, стол накрыт от Востока до Запада.
Опять не подействовало. Еще немного — и в комнате не осталось бы ничего, что можно было бы спалить. Я принес с антресолей постель и принялся понемногу скармливать ее огню.
— Солнце, ты самое старое, самое юное, ты сама мудрость, само безумие, не умаляешься и не делишься никогда, всегда одиноко и все-таки целиком умещаешься в каждом живом глазу, ты, великое, заполняешь космос, ты, малое, проходишь в игольное ушко, ты свободнее всех, тебя ничто не возьмет, но ты покорнее всех в оковах закона, тебе нельзя не взойти!
На этот раз, как мне кажется, получилось изящнее, но все равно безрезультатно. Еще немного — и мне пришлось бы жечь книги. Вы даже не представляете, как это трудно. Книги горят очень плохо, очень медленно и дают больше пепла, чем огня. Их надо — в последний раз — перелистывать, концом головешки ворошить в пекле страницу за страницей; иначе они обгорают лишь по краям, гаснут и душат пламя. А потом превращаются в массу слоистого пепла, и его приходится развеивать без сожалений к некогда любимым строчкам, когда те мелькают белым шрифтом на черных хрупких листах, которые, вспорхнув, рассыпаются с сухим треском.
4
Когда сжигаешь книги, то не до разговоров. А после книг надо было топить чем-то еще. Я полез на антресоли и обыскал все углы: жечь нечего. Я спустился, поискал, но ничего не нашел. Уже не надеясь, осмотрелся вокруг, но увидел лишь камень и железо; не поджигать же теперь дом! Мой обреченный взор опустился и встретил вблизи то, что искал вдали: ведь могла гореть моя одежда.
С бельем все было очень просто. А вот сжечь пиджак оказалось так же трудно, как и словарь. Ради одной крохотной искорки приходилось ждать, пока ткань покроется шлаковыми проплешинами, похожими на высовывающиеся головы прокаженных негров, и вдыхать густой и едкий дым, в котором парили маленькие аэростаты сажи. К счастью, одежда была не из чистой шерсти, а камин теперь тянул хорошо.
Пока горели брюки, нить за нитью, я орудовал кочергой, придвигая к капризному пламени пока еще нетронутые участки ткани, и вдруг заметил, что огонь как-то странно побледнел. Мои обнаженные плечи обдувал свежий ветерок. Тени вокруг меня начали растворяться в молочном рассвете. Я собрал тлеющие угли и покрыл их пеплом, чтобы удержать жар. Подошел к окну: в воздушной голубоватой дали увидел набухающие розовые облака и внезапно появившуюся на горизонте золотую точку, растущий огненный куполок, который возносился громким слепящим криком.
5
Поскольку я уже давно вышел за пределы правдоподобия и теперь должен как-то выпутываться, может, стоит разбудить моего героя и услышать от него: «Это был всего лишь сон»? Это старая уловка, которой я еще не премину воспользоваться. Но рассказчик, использующий подобные средства, обычно не ставит под сомнение условность, согласно которой сон — ложь, а явь — правда. Даже допуская, что такое предположение приемлемо в обычной жизни, если, конечно, между сном и явью существует связь, в мире рассказа оно становится подозрительным, поскольку там вышеназванные состояния суть повествовательные приемы, а значит, искусственны и ложны. Возможно, следует поменять местами термины. В таком случае, вы, слушающие меня, и я, повествующий вам, мы вместе разыгрываем комедию-сон в полудреме, в которую нас погрузил мой рассказ. А если бы мы вдруг проснулись? Не знаю, где и в каком виде очнулись бы вы. Для меня же вся эта история с великим запоем и искусственным раем развеялась бы в недрах сна, и я проснулся бы голым пленником в доме без дверей, который в тот самый миг, когда всходило солнце, задрожал как отходящий пароход, дернулся, закачался, да так, что меня стало кидать из угла в угол, на этот раз уже проснувшегося в действительности, в самой настоящей ужасной действительности.
6
При дневном свете и от сильных толчков, сотрясавших здание, все изменилось. Стены и пол размякали, как воск в печи, покрывались морщинами, испещрялись канавками, сходившимися в мягкие каналы, откуда сочилась густая теплая жижа. Я скользил и падал на этом влажном месиве, а оно при каждом прикосновении дергалось, словно от боли; я задыхался от усиливающейся жары, проваливался в ямы с горькой водой, цеплялся за какие-то гибкие стебли и под пальцами, в странно узнаваемой пульсации, ощущал их жизнь.
Читать дальше

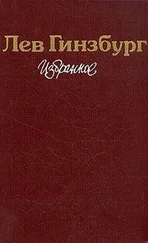
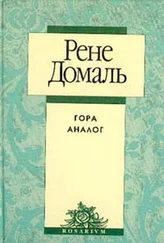



![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)