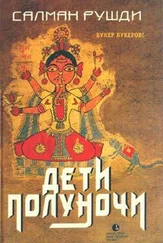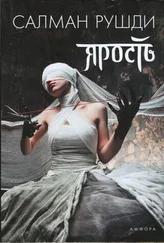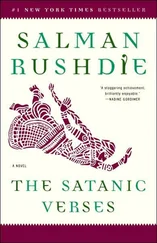Когда она оскорбляла его публично, она делала это с ослепительной брильянтовой улыбкой, как бы означавшей, что она только шутит, что ее постоянные шпильки – не более чем внешняя форма восхищения, слишком необъятного, чтобы выразиться прямо; улыбка, можно сказать, заключала ее поведение в иронические кавычки. До конца убедительным это, правда, никогда не было. Частенько она пила (антиалкогольные ограничения вводились и отменялись параллельно со взлетами и падениями в политической карьере Морарджи Десаи [ 72], но после разделения штата Бомбей на Махараштру и Гуджарат город распрощался с ними окончательно), а когда пила – ругалась. В полном сознании собственного таланта, во всеоружии языка, столь же безжалостного, как ее красота, и столь же яростного, как ее искусство, она никому не позволяла уйти от ее колоратурных проклятий, от ястребиных пике, джазовых импровизаций и витиеватых газелей ее брани, раздававшейся всегда с неизменной полированно-каменной улыбкой, служившей своего рода анестезией для жертв, у которых она выдирала внутренности. (Хотите знать, каково было жертвам – спросите меня, ее единственного сына. Чем ближе работаешь к быку, тем легче угодить к нему на рога.)
Разумеется, это была Белла и еще раз Белла, вернувшаяся, как и было предсказано, чтобы вселиться в собственную дочь. «Теперь я буду вместо нее, – сказала Аурора, – ясно вам?»
Представьте себе: в кремовом шелковом сари, по краю которого шел золотой геометрический узор, что вызывало в памяти тогу древнеримского сенатора, – или, если упоение собой возносило ее особенно высоко, в еще более роскошном сари императорско-пурпурного цвета – она покоится в шезлонге и, клубами выдувая, как огнедышащий дракон, дым дешевой цигарки «биди», заполонивший всю гостиную, председательствует на одной из своих не слишком частых, но скандально знаменитых вечеринок с виски и кое-чем похуже, вечеринок, дающих своей роскошной распущенностью массу лакомой пищи городским сплетникам; хотя сама она ни разу не была замечена в баловстве, будь то с мужчинами, с женщинами или с иглами… Бывало, в поздний час, в самый разгар гульбы она вставала и, как поддатая пророчица, принималась кровожадно пародировать пьяный выпад Васко Миранды в ночь Независимости; не опускаясь до признания его авторского права, вследствие чего собравшиеся даже не подозревали, что ее слова – дерзкая вариация на заданную тему, она в деталях описывала грядущее изничтожение ее гостей – художников, моделей, сценаристов полукоммерческого кино, трагических актеров, танцовщиц, скульпторов, поэтов, плейбоев, спортсменов, шахматистов, журналистов, азартных игроков, контрабандистов, промышляющих индийской стариной, американцев, шведов, чудаков, дам полусвета, всех самых симпатичных и бешеных из «золотой молодежи» города, – и пародия была настолько убедительной, настолько точной, ирония была так глубоко спрятана, что невозможно было не поверить этому злорадному облизыванью губ или – поскольку ее настроение быстро менялось – этому олимпийскому, божественному безразличию.
– Подделки под жизнь! Исторические аномалии! Кентавры! – бушевала она. – Не рассчитывайте, что вас пощадят грядущие бури! Полукровки, метисы, призраки, мертвяки! Рыбы без воды! Грядут скверные времена, милашки вы мои, не надейтесь, что пронесет, и тогда всю нежить пинком под зад отправят к дьяволу, ночь поглотит всех призраков, и жиденькая ваша полукровь потечет, как вода. А я, заметьте, останусь целехонька, – произносила она в заключение, на самом гребне подъема, гордо расправив плечи и уставив в небеса палец, подобный факелу статуи Свободы, – благодаря моему Искусству, несчастные вы ничтожества.
Но гостей, которые к тому уже времени лежали штабелями, пронять было невозможно.
Потомству своему она тоже предрекала всяческие беды:
– Мои детки вышли худо, уцелеют – будет чудо.
…А мы – мы употребили жизнь на то, чтобы оправдать ее предсказания на все сто, двести и триста… говорил ли я о том, что она была совершенно неотразима? Слушайте же: она была для нас светочем жизни, возбудительницей мечтаний, возлюбленной ночных грез. Мы любили ее даже когда она уничтожала нас. Она заставила нас любить ее такой любовью, которая была, казалось, слишком велика для наших тел – словно создана ею самой и преподнесена нам, как преподносят произведение искусства. Если она попирала нас, то мы ведь сами с радостью ложились под ее звенящие шпорами сапожки; если она поносила нас в своих ночных тирадах, то нам ведь доставляли наслаждение удары ее языка-кнута. Именно когда я понял это, я простил моего отца; ибо мы все были ее рабами, но по ее великой милости ощущали это рабство как подлинный рай. Такое, говорят, под силу только богиням.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу