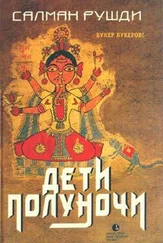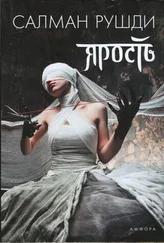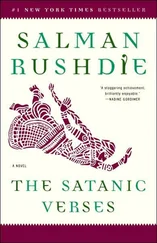– Так меня возненавидели, что решили замалевать? – кричала Аурора, ворвавшись к нему в мастерскую и чувствуя одновременно раскаяние и смятение. – Нельзя было пять минут подождать, пока я успокою старика Ави?
Васко прикинулся, что не понимает.
– Вы что думаете, весь сыр-бор из-за Ины? – продолжала Аурора. – Просто вы меня слишком соблазнительной сделали, вот он и возревновал.
– Ну, так теперь у него нет причин для беспокойства, -сказал Васко, улыбаясь горькой и в то же время кокетливой улыбкой. – А может, наоборот, стало больше причин; потому что отныне, Аурора-джи, вам суждено вечно быть подо мной. Мистер Бхаба повесит нас у себя в спальне – видимого Васко и невидимую Аурору под ним с еще более невидимой Иной в руках. Некоторым образом, семейный портрет.
Аурора покачала головой.
– Мочи нет, какая чушь. Эти уж мне мужчины. Бесчувственные до мозга костей. Плачущий араб на коне! Вкуса у этого Бхаба нет ни на грош – поделом ему. Лаже базарный мазила что-нибудь потолковей бы сотворил.
– Картина называется: «Автопортрет в виде Боабдила, прозванного Неудачником (эль Зогойби), последнего султана Гранады, покидающего Альгамбру», – сказал Васко с неподвижным лицом. – Или «Прощальный вздох мавра». Надеюсь, Ави-джи не слишком обидится на это название. А также на использование фамилии, семейных баек и иного-прочего личного материала. УВЫ, без предварительного на то разрешения.
Аурора Зогойби уставилась на него с изумлением; затем с громкими и, возможно, мавританскими вздохами и всхлипываниями, расхохоталась.
– Негодник вы, Васко, – сказала она наконец, вытирая глаза. – Гадкий, темный человек. Что мне теперь делать, чтобы мой муж не свернул вам скверную вашу шею, – об этом надо крепко подумать.
– А вам-то, вам? – спросил Васко. – Вам понравилась эта горемычная, отвергнутая картина?
– Мне понравился горемычный, отвергнутый художник, -ответила она мягко и, поцеловав его в щеку, ушла.
x x x
Через десять лет мавр воплотился вновь, на этот раз во мне; и пришло время, когда Аурора Зогойби, идя по стопам В. Миранды, написала картину, которую тоже назвала «Прощальный вздох мавра»… Я потому так задержался на Васко и старых историях о нем, что вместе с моей собственной повестью ко мне вновь приходит и вновь вызывает меня на битву былой страх. Как мне передать этот панический, до обрыва в животе, до белизны в костяшках стиснутых пальцев, испуг бешеной езды, когда мне невольно и буквально приходилось оправдывать фигуры речи, столь часто применявшиеся к моей матери и ее кружку? Авангардист, реактивный самолет, бегун впереди прогресса, прожигатель жизни, у которого она была горящей с обоих концов свечой из поговорки, хотя по наклонностям я был скорей из числа поборников экономии свечного воска. Как передать это ощущение фильма ужасов, когда рост волос чуть ли не виден невооруженным глазом, когда вдруг чувствуешь, как тесны становятся ботинки стремительно растущим ступням; как заставить вас разделить со мною боль, вызванную ростом коленных чашечек, боль, из-за которой мне так трудно было бежать? Удивительно, что мой позвоночник не стал искривленным. Я был парниковым растением, солдатом на нескончаемом марш-броске, путешественником в машине времени из плоти и крови; мне постоянно не хватало воздуха, потому что, несмотря на боль в коленях, я бежал быстрей, чем часы.
Не подумайте, что я пытаюсь представить себя каким-то чудо-ребенком. Я не проявил ранних способностей ни к шахматам, ни к математике, ни к игре на ситаре. Чудом был только мой неостановимый рост. Как мой родной город, как Бомбей моих радостей и печалей, я ширился и набухал гигантским грибом, я распространялся вверх и вширь без всякой системы и плана, не имея времени остановиться и поразмыслить, извлечь уроки из собственного и чужого опыта, из собственных и чужих ошибок. Как могло из меня получиться что-нибудь путное?
Многое, что было во мне подвержено порче, – испортилось; многое, что было способно к совершенствованию, но уязвимо и хрупко, – погибло.
– Смотри, какой красавец, мой павлинчик, мой мор, мой мавр, – приговаривала мать, кормя меня грудью, и скажу без ложной скромности, что, несмотря на южноиндийскую темнокожесть (столь невыигрышную на рынке женихов!) и если отвлечься от увечной руки, я и впрямь вырос красивым; но долгое время из-за этой злосчастной правой я видел в себе одно лишь уродство. К тому же наружность цветущего молодого человека, когда в душе я был ребенком, таила в себе двойное проклятие. Лишившись из-за нее вначале естественных детских, малышовых радостей, затем, действительно став мужчиной, я утратил золотисто-наливную юную красоту. (В двадцать три года я был совсем седым человеком, и многие системы организма уже действовали не так хорошо, как раньше.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу