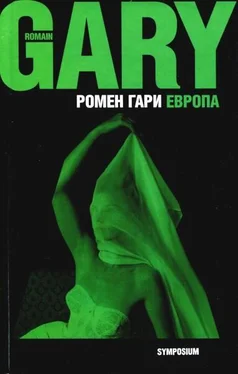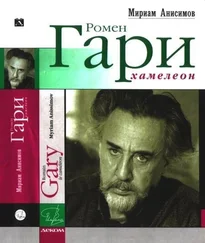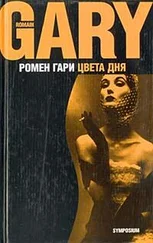У Мальвины был австрийский паспорт, и, чтобы жениться на ней, нужно было разрешение Министерства иностранных дел. Задолго до того, как он подал прошение в департамент, его вызвало руководство. Полномочный министр, который его принял, приписывал себе образованный ум и оригинальность: в кабинете посетителей встречали два больших пуделя. Он принадлежал к поколению, пришедшему на смену эпохе Поля Морана и еще одевавшемуся у тех же портных.
— Мой дорогой, делайте что хотите, но перестаньте выставлять себя напоказ. Вы попали в сети к авантюристке. Ходят слухи, что у вас весьма серьезные намерения… Неужели вы и вправду собираетесь дать свое имя этим останкам куртуазной Европы? Она становилась любовницей всякого, кто в наш век еще способен разориться ради женщины. Но это не самое страшное. Вы когда-нибудь слышали о графе Лебентау?
— Ни разу со времен крестовых походов, — сказал Дантес.
— Ну так вот. Когда старая аристократия решает выплыть на поверхность, она действует решительно. Замок Лебентау стал домом свиданий, и даже попросту борделем, и заправляет этим Мальвина фон Лейден…
Дантес принужденно улыбнулся. Она еще ничего ему не сказала.
— Культура всегда заводила подозрительные знакомства, господин министр, — сказал он. — Неужели вы думаете, что можно отнять у Европы ее распущенность?
— Удивительно! Концепция просветительного разврата, в ваши-то годы… Между прочим, довожу до вашего сведения, что Европы никогда не существовало. Были только европейские умы… Чем гнаться за этой музой в сторону кардинала де Берни и «Опасных связей», лучше обратиться к Декарту или Паскалю…
— Должен ли я подать в отставку?
— Ну, полно, мой дорогой. Вы же не будете таким идиотом?
Он искал оправдание и нашел его там, где его находят всегда: в философии. Эта женщина, которая рассказывала ему о прожитых веках, правда, смеясь, чтобы он не счел ее сумасшедшей, дала ему еще кое-что кроме себя: общение с теми, кем настоящее одаривает прошлое, будучи просвещено историческими знаниями, каких оно само о себе не имело, и обладая талантом придавать пышность и значение тому, что никогда не существовало или происходило иначе, более незаметно, а иногда более неприглядно. Ее манера вызывать в памяти свои «знакомства» от эпохи Возрождения до Ницше окутывала ее чарами, в которых он теперь с удовлетворением узнавал аристократические мечтания, пристрастие ко всему, что, говоря о великолепии, никогда не говорило ни о нищете, ни о страданиях, ни о равнодушии или жалости, которые элита испытывала к народу лишь оттого, что его разум не был просвещенным. Дантес мысленно перелистал, не упуская ни страницы, все шедевры, составлявшие гордость человеческого ума: от Эразма до Расина и от Паскаля до Вольтера он не нашел ничего, что по отношению к народным страданиям значило бы больше, чем повод мило или глубокомысленно порассуждать. Фейерверки — неважно, какие — фейерверки ума или суперинтенданта Фуке — это всегда развлечение. Если потом, после признания, он ни разу не испытал ни малейшей досады, когда Ма столь откровенно рассказывала ему о своих авантюрах, был ли в этом отсутствии упрека и горечи знак великодушия, или просто вкус праздника, того праздника, которым — и ничем иным — была Европа и который всегда сопровождается благожелательностью и пониманием? Мадам де Помпадур доставляла Людовику XV девятилетних девочек в знаменитый Олений парк, хотя потом приходилось выдавать их замуж с большим приданым, и это называлось радостями жизни. Жак Простак [49] Жак Простак — ироническое прозвище французского крестьянина.
загибался в нищете и грязи, но Жак-фаталист был для Дидро источником средств. Культура возникла среди наслаждений и расцветала в удовольствиях — это было началом великого раздвоения, чтобы не сказать шизофрении, от которого мир так и не оправился и которое должно было стать причиной классовой борьбы. Дантес был вынужден признать, что всегда воспринимал Европу как сад наслаждений и что «Ужасы войны» в его глазах знаменовали прежде всего красоту Гойи. «Голоса молчания» Мальро, быть может, больше, чем какое-либо другое произведение, гениально показывают то, что делает гения самодостаточным и не приводит ни к чему униженно человеческому: опьянение высотой остается на вершине, и если Шодерло де Лакло и Бодлер первыми сознательно пошли на литературное сотрудничество со Злом, то от Эразма до Вольтера Культура неизменно рассматривала последнее не как факт общественной жизни, а как интересную тень на картине. Никто не выказал более явно свою удаленность от землетрясений, чем Вольтер, рассуждавший о землетрясении в Лиссабоне. В безнравственности и шарлатанстве Мальвины фон Лейден молодого атташе, безусловно, привлекало то счастье, которым Культура располагала внутри себя, ни разу не облегчив человеческих несчастий…
Читать дальше