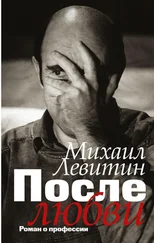Ему захотелось уехать от самого себя, от Бернблика с Бернброком, от всего однообразия детства. Он назывался «свеча». Он понимал, что ей больно.
Бал становился ее умиранием. И это было еще одним воплощением времени. Бал переставал жить сам по себе, свеча сгорала совершенно самостоятельно, он выздоравливал, хотя его лишали бала. Его лишали музыки, женщин, славы. Он боялся уснуть и пропустить момент, в который все это исчезнет. Он делал все, чтобы не уснуть. Он не уснул, но и не заметил. Она сгорела сама по себе, бал кончился, температура упала.
Он попросил принести зеркало. Ему принесли. И когда он увидел чистое мальчишеское свое лицо в провалах рябинок, он понял цену бала. Он понял, что, пока смотрел на свечу, мир менялся. Это было четвертое время, оно делало свою подрывную работу, это была плата за пребывание на балу.
— Теперь я урод, — сказал бессмертный Шурка.
— Что ты! — возразила сестра. — Это как веснушки, ты стал еще милее, тебе это очень идет.
Он улыбнулся. Время запечатлелось на его лице. Смерть свечи не осталась безнаказанной. Нельзя любоваться красотой безнаказанно. И, значит, содержание осени за окном тоже что-то отбирало. И все красивые картинки жизни запечатлелись рябинками на его лице.
Эта связь его поразила. Содержание наказывалось действием. А он родился созерцателем. Созерцание каралось. И тогда он понял, что будет смотреть и смотреть, пока не сгорит, как свеча.
И тогда он понял, что это была плата за бессмертие. Свеча взяла на себя его время. Собственно, она и была его временем, но он не знал об этом.
С ним ничего не происходило, происходило с другими, но они исчезали неизменившимися, он же проснулся, не узнавая самого себя в зеркале. Это были первые загадки.
Тогда он понял: если бы свеча не сгорела, он бы не изменился. Он понял, как вредно смотреть на свечу. Нельзя смотреть на умирающего безнаказанно.
Ты отдаешь ему силы. Он уводит тебя за собой. Он — ты.
Тогда он понял, что сгорела не свеча, и то, что происходит сейчас с ним, — это уже следующая вторая жизнь. ПОТОМ СГОРЕЛА СВЕЧА.
Линия меняет направление
Они спускались по-разному: тучные блондинки, рыжие с вихляющей походкой, тощие надменные брюнетки, девчонки, дамы, барышни. Но лица их были равнодушны и пусты. Иногда бессмертному Шурке, подглядывающему за ними в дверную щель, мерещилась на этих лицах даже ироническая улыбка: а пусть оно все идет к черту в конце-то концов!
Это стало его энциклопедией, словарем знаний.
Если они выходили от Бернброка, то спускались в сопровождении двух негров. Негры провожали к выходу и выпускали из парадного на Съезжинскую. Один из негров был уже немолод, с седыми баками, в шляпе, с зонтом, перекинутым через руку, очень благообразен, за ним чувствовалось мужское прошлое, другой — красавец в тюрбане. В полутьме подъезда у негров поблескивали пальцы. По замыслу Бернброка, негры должны были поддерживать в дамах дух бодрости. Считалось, что дамы при неграх постараются не расслабляться.
Великий циник Бернброк! Дамы начинали чувствовать в себе запас сил и понимать, что не все еще потеряно. К трагедиям своих клиенток Бернброк относился не как к ошибкам, а как к прихотям похоти и поощрял их на новые преступления.
В этом-то и была уязвимость его как врача-гуманиста, и этим же объяснялись легкость и удачливость его прытких акушерских рук. Он был послеродовой психолог, послеабортный, он был киник.
Бессмертный Шурка был посвящен в тайну этих женщин, ему казалось, что там, за дверью, делали больно не им, а ему, но в то же время он завидовал тем, кто сейчас причинял им боль, но еще больше тем, кто заставил их эту боль испытать. Его бил озноб, когда он видел их, выходящих от Бернблика и Бернброка.
— Ну, проводи, — сказала она. — Ты так жалобно смотришь. Тебе меня жалко?
— Нет, не вас.
— Не меня? Кого же?
— Мне себя жалко.
— Почему?
— Вы сейчас уйдете, а я никогда не видел женщины красивей вас.
— Нашел время говорить комплименты! Но все-таки ты очень мил, проводи. Я на тебя обопрусь.
Они вышли на Съезжинскую. В трамвае он постарался незаметно прикоснуться к ее волосам. Она обернулась.
— Что ты делаешь?
— Трогаю ваши волосы.
— Зачем?
— Не знаю. Это привычка. С детства я люблю трогать женские волосы. Мама говорила, что когда я маленький встречал какую-нибудь девочку, то орал восторженно: «Девочки, девочки, косички, бантики!»
Она засмеялась.
— Я никогда не засыпал, пока не поглажу маму по голове. Она брала меня в постель, я гладил ее волосы и засыпал. Однажды она оставила меня с дядей, я погладил маму и уснул, а дядя прилег рядом, я проснулся и потянулся к маминой голове, чтобы погладить, дядя был лысый, он увидел мое движение, начал отклоняться в ужасе, сполз с дивана. Но ему повезло, я слишком хотел спать и, не найдя мамы, тут же уснул. Дядя рассказывал потом эту историю с содроганием.
Читать дальше







![Михаил Левитин - После любви. Роман о профессии [сборник]](/books/431108/mihail-levitin-posle-lyubvi-roman-o-professii-sbo-thumb.webp)