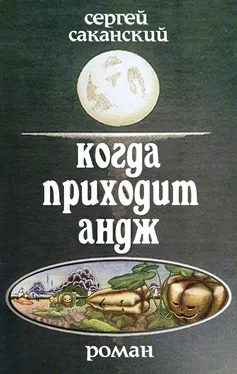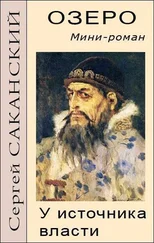Они находились на вершине Роман-Кош, Аграфена расстелила одеяло на самом краю пропасти, узорчатый угол чуть свесился с ослепительно белой скалы и трепетал на ветру…
(В этот момент аэробус ИЛ-86, бездарный, плохо задуманный и неряшливо построенный аппарат, оторвался наконец от взлетной полосы аэродрома Пулково и взял курс на Ашхабад. Самолет был полон людей, лишь одно кресло пустовало: пассажир, который был должен занять место 42-а, на регистрацию не явился. Этим пассажиром был никто иной как Стаканский. Дождь застал его в пути. Он долго не мог поймать машину и опоздал. Потолкавшись в кассе, Стаканский взял билет на ближайший рейс до Симферополя и вскоре, глядя на расплавленные солнцем облака, подумал, что если самолет упадет, это будет быстрая, блистательная, и чрезвычайно интересная смерть, случайно подсмотренная изнутри, правда, осталось бы неясным, чем прогневили Бога все остальные 350 человек…)
Аграфена была женщиной хозяйственной, обстоятельной, она вытряхнула на импровизированный стол дюжину фарфоровых тарелок, со вкусом, с явным знанием теории цветоделения обставила натюрморт.
— Послушай, Зин! — сказал Иван, усевшись по-татарски на самом краю скалы. — Последнее время меня одолевают странные, недобрые мысли, мне кажется, пришла нам пора решительно объясниться… За нашу любовь! — он залпом осушил стакан коньяка, лицо его мгновенно покраснело от обильного притока крови, в глазах заблестела влага — неполадки в работе слезных мешков, вызванные, как известно, алкоголем… За его широкими плечами раскинулось море, весь Южный Берег от Алушты до Фороса был виден, будто на карте, мир был прикрыт тонкой нежной дымкой, взывал к милосердию…
— Вся моя жизнь, — продолжал Иван, закусывая тонким ломтиком ветчины, — была попыткой доказать тебе, что я совсем не то, что ты обо мне думаешь, и уж более того: я вовсе не являюсь твоей полезной галлюцинацией. Вообще, каждый из нас представляет собой лишь сумму собственных отражений в глазах окружающих людей — в этом суть моей новой теории человеческих взаимоотношений… — он выпил еще полстакана коньяка, закусил кубиком сыра и, устроившись поудобнее (как бы покрепче оседлав своего любимого конька, хотя Аграфена с изумлением услышала из уст мужа подобные речи) продолжал:
— Рассмотрим человека как некую точку, помещенную в особую систему эмоциональных координат, суть которой человеческие качества: ум — глупость, смелость — трусость и т. д. В таком случае, каждое суждение о человеке даст вектор определенной длины и направления, и истинный характер данного индивида определится результативным вектором. Можно подумать, что это и есть абсолютно верное суждение, поскольку характер человека проявляется лишь в его поведении, высказываниях, то есть — лишь в глазах окружающих. Но вот беда: стоит только какому-то новому человеку попасть в это векторное поле, как он немедленно сформирует свое, отличное от других мнение, и тогда результирующий вектор изменит величину и направление. Но это же абсурд! Утверждать, что личность человека меняется в зависимости от лишнего суждения о нем — нелепо! Это значит лишь одно, а именно: личности как таковой не существует, а есть лишь ее проекция в сознании окружающих, образно говоря, ее отражение в чужих глазах. Кому-то я представляюсь добрым, кому-то — злым, кто-то видит во мне благороднейшего человека, кто-то — законченного подлеца. Согласись, еще пять минут назад у тебя было совсем другое мнение обо мне, до тех пор, пока я не заговорил. Даже раньше, когда я подумал «как сказуемое за подлежащим», можно было сделать вывод: что речь идет об интеллигентном, образно мыслящем человеке, да и неявная цитата из покойного Бродского, небрежно, походя употребленная, о чем-нибудь да и говорит? Не удивительно, если в дальнейшем я вдруг окажусь, скажем, известным музыкантом, к примеру, композитором, написавшим уйму замечательных сочинений. Черт возьми! — Иван громко ударил кулаком о ладонь. — Мне кажется, нас тут давно дурачат. Похоже, здесь происходит совсем не то, за что оно себя выдает. Эта жизнь фантастична, нелепа: мы действуем, как во сне, наши поступки незамотивированы, наши речи абсурдны. То мы вдруг замечаем, что родные, дорогие сердцу воспоминания, становятся набросками чьей-то бездарной книги, то вдруг исчезает кто-то, кого ты хорошо и близко знал, и ты ходишь, ищешь его, натыкаясь на подсунутых тебе двойников, слыша в чужих устах его слова. Платон был прав. Дольний мир — это лишь отражение, тени от мира горнего, где некто невидимый проносит перед входом в пещеру загадочные фигуры, и наша Вселенная (в данном случае, не имеет никакого значения, бесконечна она или нет) суть колебания теней на стене пещеры, где мы сидим в тесноте, в темноте… Одно могу сказать определенно: те, кто там ходят и носят эти мрачные изваяния, те, кто издает там дикие, нечеловеческие звуки, — они ужасны, они отвратительны, и не дай Бог смертному увидеть их в лицо, если, конечно, у них есть лица… Ох! Что это? Что происходит? — глаза Ивана расширились от ужаса и пронзительный вопль, из тех, которые иногда раздаются в ночи, не принадлежа ни человеку, ни животному, застыл в его гортани, так как в этот момент Аграфена, с бледным, внезапно затвердевшим лицом, поставила перед ним тарелку с огурцами… Иван машинально протянул руку, но вдруг сочнозеленый, весьма аппетитный на вид огурец выскользнул из его пальцев, плюнул мерзкой жидкостью и улетел за край экрана, прочертив молниеносную дугу вокруг Иванова плеча. Тотчас, в тарелке потревоженные, зашевелились, заверещали огурцы, и не успел Иван выйти из оцепенения, как все они с реактивным звуком разлетелись в разные стороны, оставив тарелку пустой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу