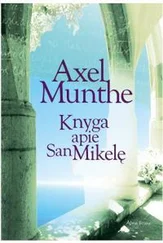Густав и Эльфрида украдкой переглянулись.
— Значит, у тебя свидание? — спросил Густав, обращаясь к печке.
Эрлинг сделал вид, что не слышал вопроса. Почти всю жизнь он вращался вне их круга, они мало что про него знали, но теперь разговаривали с ним так, словно расстались вчера. Что руководило ими, старое желание контролировать его жизнь, опасение быть замешанными во что-то или, наоборот, оказаться в стороне? Может, когда он уйдет, в них вспыхнет ккая-нибудь давняя обида?
Эрлинг вышел в прихожую и надел пальто.
— Ну, мне пора, — снова сказал он.
— По-моему, ты сам должен назвать свою цену. — Густав кивнул на часы.
Эрлинг покачал головой.
— Тогда, скажем, двадцать пять крон, и с покупкой тебя!
— Ладно, не думай больше про это, — сказал Эрлинг и подошел к телефону. Он вызвал такси и оставил рядом с телефоном деньги за разговор.
Сначала он хотел сразу выложить за часы двадцать пять крон, но он хорошо знал своего брата. Густав не поймет сарказма, он спрячет деньги в карман и подумает, что Эрлинг как был дураком, так им и остался. Но все могло обернуться и по-другому. Очень скоро, если не через минуту, Густав решил бы, что Эрлинг, выложив без раздумий двадцать пять крон, просто схитрил. Должно быть, часы стоят гораздо дороже и Эрлинг провел его. И ноша грехов Эрлинга стала бы еще более тяжкой. Эрлинг отказался платить за часы двадцать пять крон только из жалости к Густаву.
— Зачем тебе такси, ведь у нас ходит трамвай, — заметила Эльфрида, ее огорчили и эти двадцать пять эре, которые Эрлинг оставил возле телефона и которые она была не в силах вернуть ему, и дорогое такси, и часы, и дешевый трамвай.
— Тогда давай двадцать, — выдавил с трудом Густав. Пусть такси подождет, трудно даже представить себе, сколько это будет Эрлингу стоить. Почему он не может просто отдать за часы двадцать пять крон и поехать на трамвае?
Эрлинг положил на стол двадцать крон и попросил бумаги, чтобы завернуть часы. Он принес из кухни табуретку и влез на нее. Едва он прикоснулся к часам, как Эльфрида заплакала. Он опустил руки и удивленно посмотрел на нее.
— Эти часы столько лет висели у нас!
Эрлинг перевел взгляд на Густава, тот прикусил трубку и вцепился обеими руками в подлокотники кресла. Взглянув на криво висевшие теперь часы, а потом на Эльфриду, он побледнел как мертвец. Из-за чего, интересно, из-за часов или из-за Эльфриды?
Эрлинг спрыгнул с табуретки и убрал деньги.
— Я не возьму твои часы, Эльфрида, но хочу дать тебе добрый совет. Не думаю, что это очень дорогие часы, но таких у тебя уже никогда не будет. К тому же это самая красивая вещь в вашем доме.
— Ты правда так думаешь, Эрлинг?
— Да, не стоит продавать такую вещь. Я редко встречал более красивые часы. И конечно, я тут же вернул бы их тебе, если б ты пожалела, что рассталась с ними.
В дверях он попрощался и вдруг увидел лицо Густава. Наверное, на Густава так сильно подействовала и продажа часов, и слезы Эльфриды. Эрлинг никогда не думал, что Густав способен на такие чувства, он предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и сбежал по лестнице. Шел густой снег. Он наклонился к шоферу:
— Мне надо в «Континенталь».
Обернувшись, он смотрел на старый дом, пока тот не скрылся за снежными вихрями.
Все пути и предостережения ведут на Голгофу
В начале февраля Эрлинг снова приехал в Венхауг. Стоял мороз, и наст в лесу был крепкий. Хвойные деревья покрылись инеем. Когда Эрлинг сел в свое любимое кресло у камина, напряжение наконец отпустило его. Он делился последними новостями, случившимися за ту неделю, что он провел в Осло.
В поезде его охватило неприятное чувство, но теперь оно прошло. Эрлинг рассказал об этом Яну и Фелисии. Он сидел в вагоне-ресторане, где уже давно перестали удивляться тому, что он заказывал на себя одного бутылку белого вина. Он ел бутерброды и читал свою карманную Библию. Книгу Есфири. Теперь ему приходилось пользоваться лупой, когда он читал эту крохотную Библию, которую всегда носил с собой в кармане жилета. Он был рад в свое время, когда купил ее в Англии, — ему надоели плоские шутки знакомых, застававших его в каком-нибудь ресторане за Священным Писанием и стаканом пива. Теперь у него была Библия, которую он мог незаметно держать в руке. Со временем зрение у него испортилось, он обзавелся лупой, а также чувством превосходства — качеством для него относительно новым — по отношению к тем, кто посмеивался над непривычным для них зрелищем. Характерная черта распространенного нынче вида язычества заключается в том, что люди больше не читают того, во что верили древние. Генри Форд дал прекрасный пример свободомыслия, произнеся фразу, которая сделалась крылатой: История — это нелепость.
Читать дальше
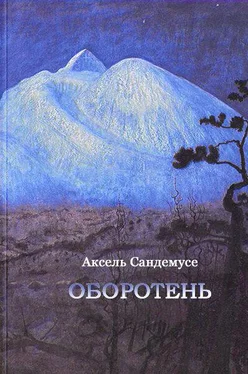






![Андрей Земляной - Проект «Оборотень» - Проект «Оборотень». Успеть до радуги. День драконов [сборник litres]](/books/384831/andrej-zemlyanoj-proekt-oboroten-proekt-oborot-thumb.webp)