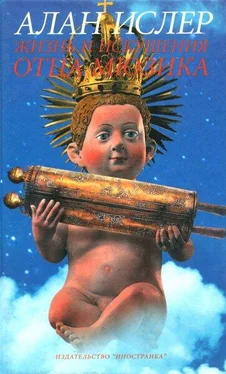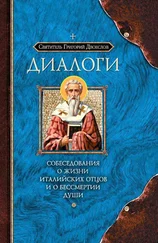Все это правда. Я робок, нерешителен и ни в малейшей степени не способен отстаивать свои права. И уж конечно я скроен не по героическому образцу. Впрочем, подобных мне немало. Но я все довожу до крайности. Все это время Мод считала меня остроумным, прощая мне слабость и инертность. Я играл роль, позировал. Наверное, так. Но Мод видела меня насквозь — мужчину ведь понять нетрудно. Кроме того, если я вначале и правда играл некую роль, то очень скоро она стала моей подлинной сущностью. Мой стиль жизни нельзя назвать проактивным, скорее, он был реактивным, а еще вернее, пассивным. Как иначе объяснить мое столь долгое пребывание в лоне Церкви, в чьи догматы я не верил? Я всегда знал, как злобны ее иерархи с их софистическими уловками, как ненавидят моих соплеменников, о чем свидетельствуют кровавые страницы истории. Уйдя в отставку, я отбросил лицемерие — свое и чужое. Я оставил в Бил-Холле, который или станет домом моему преемнику, или превратится в мусорную свалку, все, что имело отношение к проведенным там годам, — они видятся мне пустыней — все: от колоколов, молитвенников и свечей до моих пожелтевших ошейников. Но почему мне потребовалось так много времени, чтобы все это отринуть?
Конечно, сыграла свою роль инерция. Нежелание раскачивать относительно устойчивую лодку. Искушение иметь близкого друга. Моя страсть — сначала к Кики, а потом к Мод, плотское влечение, порожденное, я полагаю, соблазном нарушить табу. Удобства и преимущества жизни в Бил-Холле. Время. Чужое мнение. И так далее, и тому подобное.
Возможно, Фрейд, дискредитированный еврейский гений, нашел бы, что главную роль сыграли мои детские годы, когда я лежал в постели рядом с матерью и она шептала: «Лежи тихо, Эдмон, не шевелись!» Определенно, именно тогда я и научился ценить преимущества бездействия. Да и позднее, в моей дальнейшей жизни, я бывал пассивен, мне подспудно хотелось заслужить одобрение матери. «Эдмон такой хороший мальчик!» Все может быть. Хотя, скорее всего, я соперничал с моим несчастным отцом, проклятым Богом. Конечно, я тоже мог провести мою жизнь, сидя в садовом кресле из пластика и наблюдая за курами, тупо ковыряющимися в земле.
ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ я посвятил тщательному изучению книги «Любовные и другие сонеты». Мои подозрения (и, как я понял из письма Мод, подозрения Аристида) были вполне обоснованны. Книга — подделка восемнадцатого века. Более того, я могу доказать, что ее автором был Пиш и что он оставил в тексте (умышленно?) некие ключи, чтобы потомки смогли его разоблачить. Сборник стихов, датированный восемнадцатым веком, содержит (умышленно?) ряд анахронизмов. Вот, например, второй катрен сонета 62:
Моя любовь меня уже не любит и другого
Спешит любить, такой усвоив стиль.
Совсем как моды бог нам повелел сурово:
«Прочь вист! Теперь играйте все в кадриль!»
Когда-то каждый школьник знал, что кадриль в начале семнадцатого века была совершенно неизвестна и вошла в моду, вытеснив вист (или ломбер), только в конце восемнадцатого века.
В других местах сочинитель сонетов дает понять (умышленно?), что он еврей. Возьмем для примера сонет 76. Влюбленный жалуется — в манере Петрарки, — что его любимая полна противоречий, в ней сочетаются несоединимые свойства. Вот заключительное двустишие:
Как шелк тончайший, смешанный с сукном,
Или в одной тарелке мясо с молоком!
Этот влюбленный, позвольте заметить, соблюдает кошер!
Последний сонет уточняет (умышленно!) личность самой леди. Ее имя скрыто под тончайшей маской. В книге 105 сонетов, расположенных по порядку, но последний имеет не 105-й номер, как следовало бы ожидать, а 505-й. Вот его первый катрен:
Три сотни поцелуев для любимой, каждый жгуч,
И двести нежных за любовною игрою.
Добавим пять еще — получим ключ,
Который тайну имени откроет.
Три сотни? Двести? Пять? Эти числа в сумме составляют 505 — непредвиденный номер, приписанный этому заключительному сонету. Наш каббалист Пиш, как можно догадаться, получал удовольствие, играя числами. В нумерологии иврита ש ר ה = ש+ר+ה.ש=300,ר=200 ה=5 — что в графологии иврита означает Сара. Таким образом, этот сонет — настоящее любовное стихотворение, сочиненное Пишем во славу своей жены.
«Любовные и другие сонеты», несомненно, связаны с пишианой. Что случится с пишианой, когда меня не станет, с этими книгами, рукописями, неразборчивыми заметками? Возможно, я оставлю все это Музею Табакмана в Тель-Авиве, музею, который много лет назад просил меня дать на выставку Талмуды из Бил-Холла. Это будет ничтожной компенсацией утраченного евреями, но сама мысль об этом вызывает у меня невольную улыбку.
Читать дальше