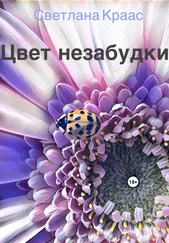душевнобольных.
Я помню вкрадчивые опасные вопросы, которые мне задавали. Меня пытались вывести из себя, чтобы я
открыл нечто действительно из ряда вон выходящее, после чего меня можно было отправить к
сумасшедшим.
Но они не могли поймать меня, как воробья на мякине.
Потому что я был в разы нормальней, чем десять тысяч психиатров.
Но все-таки надо было что-то делать.
С помощью каких-то других врачей, к которым мама нашла подход косвенными путями, у меня нашли
тяжелое легочное заболевание, потребовавшее полного покоя и не позволившее дальше учиться.
Так с честью для школы: они не сами меня выгнали, а я оказался больным; и с малыми потерями для себя:
объявленный не сумасшедшим, а всего лишь туберкулезником -- я закончил обязательное образование.
Но даже отец не мог бы упрекнуть меня в отсутствии тяги к знаниям.
Распрощавшись со школой, я готовился учиться на художника. Не думаю. что в Академии изящных
искусств меня научили бы меньшему.
17
Мой уход из школы практически совпал по времени со смертью ненавистного отца.
И наша семья вздохнула.
Точнее, вздохнул я: на моей заднице стали постепенно проходить многолетние синяки от отцовской
пряжки, и я уже не вздрагивал, словно битая собака, при одном слове "ремень".
Я шел домой, не боясь побоев и не предчувствуя необходимости похода по воняющим блевотиной
пивным.
Что же касается мамы... Мама не изменилась. Осталась прежней тихой и кроткой, с широко раскрытыми
глазами, которые я так любил.
В этих глазах, в самой их потаенной глубине -- которую, возможно, знал только я! -- всегда таился какой-то
подспудный испуг. Точнее, вина за сам факт своего существования и постоянная готовность к упреку.
Наверное, за недолгие годы совместной жизни отец выбил из мамы все твердое.
А возможно, она и от роду была такой, и терпела отцовские выходки лишь благодаря мягкому характеру.
Другая бы на ее месте давно проломила ему череп утюгом, освободив семью от тирана.
И я ведь тоже был таким, как мама. Я ни разу не пытался дать отцу отпор.
Только моя покорность была основана на уверенности в том, что все это пройдет. Я стану человеком,
расправлю плечи и заживу иной жизнью.
После смерти отца мы опять переехали в другой город. Покрупнее -- тут имелся даже оперный театр! -- и
поближе к столице.
В семье произошли какие-то финансовые перемены.
То ли мама выгодно продала дом, где мы жили при отце, то ли получила наследство, то отец перестал
пропивать пенсию, которая у госслужащих выходила довольно большой -- и она после его смерти перешла к
маме.
Я не вникал в денежные дела семьи.
Я не был хозяином и не собирался считать домашние деньги.
Тратить их я любил, не скрою.
Хотя опять-таки повторюсь, что внешняя роскошь жизни никогда не являлась для меня самоцелью.
Это да.
Но когда деньги сами шли в руки, я любил приодеться.
А сейчас они шли.
Мама, моя добрая мама, завладев деньгами, не стесняла меня в средствах.
И содержала, как денди. Или даже как графа. Или как наследного принца.
Я покупал себе лучшую одежду, в какой было не стыдно показаться в опере. Носил дорогую шляпу и даже
старомодную, но страшно шедшую мне трость с набалдашником из слоновой кости.
В то время на какой-то момент я сам увлекся музыкой. Едва начался музыкальный период моей
художественной жизни, как мама тут же купила мне рояль. Не какое-нибудь Мюльбаховское пианино с
подсвечниками из поддельной бронзы, а настоящий беккеровский рояль. На котором мог играть настоящий
музыкант и сочинять истинный композитор.
Увы, из меня не получилось ни композитора, ни даже музыканта. В восемнадцать лет уже стало ясно, что
музыка -- не моя стихия. Ей следовало учиться с младенчества, а попытки овладеть ею в подростковом
возрасте смешны и обречены на провал. Но моя добрая недалекая мама не могла о том знать...
Соседи и родственники меня презирали.
Ничего странного: не закончив образования, не получив специальности и будучи иждивенцем
собственной матери, я вел шикарную жизнь свободного художника.
Свободного от обязанностей, могущего отдавать себя творчеству и создавать произведения, не думая о
земных проблемах.
Правда, ничего серьезного я так и не создал. Пока не создал: тот период внезапной свободы от школьного
гнета я расценивал как подготовительный.
Душа моя должна была распрямиться, а сам я освободиться от массажа мозгов, который мне делали в
Читать дальше






![Борис Шергин - Незабудки [авторский сборник]](/books/430715/boris-shergin-nezabudki-avtorskij-sbornik-thumb.webp)