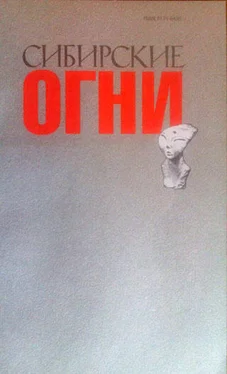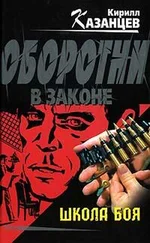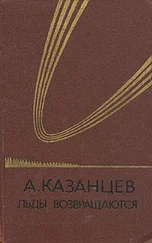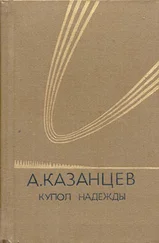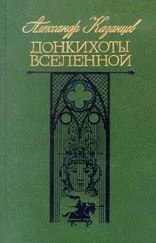Работали на полях до сумерек, а на ночь председатель совхоза распределил нас по избам: парни, разумеется, отдельно от девушек. И для женатиков никаких исключений.
Когда зажигались уже в прорехах туч первые звезды, проводил я Елену до кособокой халупы вдовой старухи, куда определили ее с двумя одногруппницами. Девчонки по дороге зазывали меня посидеть-посумерничать, но хозяйка, похожая на старую ведьму, встретила нас ворчанием: «Грязишши-то понатащите сколь!..» — и так недобро зыркнула на меня, что набиваться в гости нечего было и думать.
Я задержал Елену в тесных сенцах — в ту пору провести без нее ночь было как-то уж очень непривычно — жарко обнял впотьмах.
— Костенька, иди, я очень устала, — шепнула она, мягко высвобождаясь, — иди, родной.
Я вышел во двор — хорошо, что у вдовы нет собаки! — прислонился к забору и стал глядеть на не занавешенные старухины окна. Лампочка у нее была слабенькой, да еще, видать, мухами обсижена, потому неказистое жилище было заполнено мутной вялой желтизной. Сквозь дождевые потеки на стеклах увидал я Елену — она снимала через голову вязаный свитер, потому и не видно было сперва ее лица. Потом я увидел его — усталое, невеселое, с азиатчинкой явной, родное… Елена глядела в окно, в темноту, прямо на меня, но не видела, будто сквозь меня глядела. И тоскливо-жутко стало мне от долгого ее взгляда: будто она где-то там, в ином мире, уже недоступная мне, красивая, бесповоротно утраченная…
Стало мне муторно, и побрел я по пустой деревенской улице, превратившейся в длинное узкое болото, какое местные жители, слыхал я, голеёй зовут. Почти до колен проваливался в грязь, с трудом выдирал из нее сапоги, слыша недовольное чавканье. Потом остановился посреди улицы. Тишина, даже собакам в такую непогодь брехать лень. Но погода-то, похоже, настраивается: вон луна, как черепаха золотая, выползла из-за туч. Может, завтра разведрится?.. Или это к морозу?.. Не успеем картошку собрать. Зато скорей уедем отсюда, так тоскливо здесь…
Вот ни души ведь рядом, стою, провалившись в позолоченную лунным светом грязь. А Елена там, в другом мире.
Вспомнится же такое, незначительное…
Клещ действительно оказался энцефалитным. Но обошлось: вовремя введенный гамма-глобулин помог. Человеческий.
Свалился с меня вскоре и еще один камень: на очередном собрании писатели почти единогласно указали Налиму на дверь — исключили из организации. Да, я понимал: свершилось это не только из-за меня, насолить успел он многим. Так и записано в протоколе: «…за многолетнюю клеветническую деятельность…» А все-таки был я растроган такой солидарностью, сказал Елене: «Вот видишь, зря ты их всех одним чохом!..»
— Так они, может, надеются, что ты на второй срок согласишься остаться? — понимающе усмехнулась она. — Гляди, не надумай!
— Хватило мне по горло! — ответил я, но мысль запала: «А ведь и впрямь уламывать начнут… Устоять бы…»
Исключенный Налим не залег на дно — очередное письмо в газете опубликовал: вот, мол, налицо расправа за критику, стоило мне вскрыть темные делишки… И годы сталинские помянул: как уже бывало, мол, бездари писательского цеха гнобить начинают даровитого.
Уж ему-то, думаю, то время памятно, весь он из него…
Вот тогда-то я и не выдержал — ответил на выпад в той же газете, привел выписку из протокола, назвал Налима не только клеветником, но еще и матерым доносчиком, ссылаясь на папку его «сигналов», что хранится в писательской организации.
На другой же день он подал на меня в суд «за оскорбление чести и достоинства». А я, хватившись перед первым походом в судилище той самой злополучной папки, ее не обнаружил. Из сейфа пропала… Сколько же заплатил Налим секретарше моей?.. Меня-то она уже до отчетно-выборного списала…
Суд длился два года и вымотал меня так, что победе толком я и не порадовался…
Перед одним из судебных заседаний имел неосторожность сказать Налиму:
— Ведь старый уже. Подумай, как умирать будешь…
Мигом слова мои были истолкованы как угроза. Истец утверждать стал, что ответчик, то есть я, замыслил расправиться с ним физически!..
А ведь и не думал я, что в тех словах моих — жуткое пророчество: умер Налим скоропостижно года через четыре после суда, успев до этого побегать резво по инстанциям, уже не только меня, но кого-то еще обличая. Труп недели две лежал в запертой квартире: ни одна из двух дочерей, живущих в Томске же, к нему не заглянула — практически не общались с папашей. Соседи забили тревогу, вонищу учуяв. Непросто было, слыхал я, укладывать разваливающееся тело в гроб…
Читать дальше