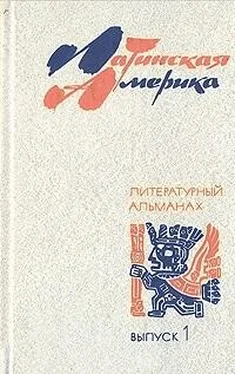Чтобы дать выход своему гневу, герой моего рассказа отправляется с ружьем в дубовую рощу, куда слетаются к вечеру серые цапли. Гремит выстрел — и «пять цапель упали на землю».
— Вот видишь? Я был прав. Не могут они упасть. — Теперь он улыбался совсем по-детски, обнажая мелкие, в пятнах никотина зубы.
— Ну как же им не упасть, если каждой досталось по дробинке? Ангелы они неуязвимые, что ли, эти дерьмовые цапли?
— Не ангелы и не архангелы, а упасть не могут.
— Ну, тогда я ничего не понимаю.
— Сейчас объясню, не спеши. — Маркиз стал искать спички. У меня их тоже не оказалось. Он выбил трубку о стену и снова улегся, подсунув под голову сложенную подушку. — Слушай меня внимательно: упасть — глагол пошлый, тусклый. Он совершенно не выражает всей драматичности момента. Ты забываешь, что герой-то твой разъярен, поэтому цапли никоим образом не могут просто-напросто упасть.
— Что же они тогда, спланировали?
Он вскочил, принялся нервно расхаживать по комнате.
— Шлепнулись! — вскричал он вдруг торжествующе. — Конечно! Эти цапли шлепнулись! Все живое шлепается — ветка, рука. Они же тоже живые, и этот твой подлец со злости их подстрелил, вот они и шлепнулись. Понял ты наконец?
Я колебался. Может быть и так. Может быть. Я чувствовал, что урок этот следует хорошенько разжевать, тогда, вероятно, из него можно будет многое извлечь. Не ожидая просьбы, я принялся читать дальше. Хотя, конечно, сделал вид, будто мне не слишком-то хочется. Не успел я прочитать и полстраницы, как Маркиз снова перебил меня:
— Постой-ка. Послушай. Послушай! Чтобы написать рассказ, человеку — тебе, мне, Чехову, кому угодно — надо не больше трех или четырех тысяч слов. Больше нельзя. И вот с помощью этой крошечной кучки слов ты должен создать живых людей, развить интригу, поселить своих персонажей в определенную среду, да вдобавок еще сделать так, чтоб у читателя сердце сжалось. Он снова сплюнул на пол.
— Читатель, может быть, прочтет твой рассказ в парикмахерской или сидя перед сном в уборной, и все-таки надо, чтобы он не забывал прочитанное, чтоб помнил хотя бы один день или год. Или тысячу лет, если ты гений. Вот почему писатель не может позволить себе роскошь потратить даром, кинуть на ветер хотя бы одно только слово.
Каждое слово у тебя должно быть будто из бархата или из змеиной кожи. Оно дрожит, оно ревет или шелестит. Вдобавок надо, чтобы слова жили между собой в ладу, как пчелы в улье; пусть они любят друг друга, пусть целуются, пусть сгорают в огне страсти. Ты меня слушаешь? Только так ты сможешь зажечь огонь и в сердце читателя, оставить на нем зарубку навеки, задеть его за живое, покорить!
Зеленые глаза Маркиза сверкали. Сам не знаю как, я ощутил вдруг, насколько он выше меня. И хуже всего то, что я сам это понимаю.
— А кроме того, — Маркиз все еще шагал из угла в угол — за каждым словом стоит на страже сама жизнь. И читатель всегда так или иначе чувствует это, ощущает в твоих словах трепет живой жизни. Тебе ясно? Ты понял? Ну, дай-то бог. Дай-то бог, потому что есть сколько угодно таких болванов, которые пятьдесят лет занимаются писательством, а потом помирают, так и не поняв этого. Но ты мне лучше вот что скажи: есть тут ванная?
— Да, да, конечно есть!
— Где?
— В конце коридора. А зачем тебе?
— Хочу принять душ. Я уже провонял весь. В моем пансионе нет горячей воды, а мыться талым снегом нипочем меня не заставишь.
— Но здесь за горячую воду берут отдельную плату.
— Брось, не жадничай. — Без лишних слов он разделся прямо посреди комнаты, достал из шкафа мой купальный халат и домашние туфли; облаченный в халат, волочившийся по полу, будто кардинальская мантия, с достоинством проследовал по коридору в ванную.
Я был озадачен и заинтригован. Что за чудище, черт побери? В самом деле он такой или все это розыгрыш? Кому могло прийти в голову так меня разыгрывать? Что ему от меня нужно?
По акценту я догадался, что Маркиз венесуэлец. У нас в тропиках водятся такого рода птицы — блестящие, искрящиеся талантом, эфемерные, как бенгальский огонь. Умелые импровизаторы, остроумные пародисты, они ловко сыплют цитатами из самых различных авторов, и никто даже не заподозрит их в плагиате; вот и Маркиз такой же — фокусник, может на потеху публике вынуть из вазы бабочку или ягуара; да, конечно, просто ярмарочный шарлатан, но, черт побери, случается, что такой тип оказывается вдруг Рубеном Дарио [1] Рубен Дарио (1867 — 1916) — крупнейший никарагуанский поэт, прозаик и публицист.
и выводит на поле боя четыре сотни малахитовых своих слонов и разбивает всех врагов наголову.
Читать дальше