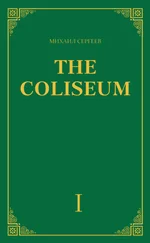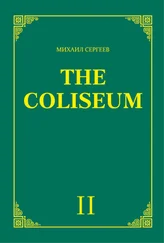— Слова из другого письма… Для чего мне это, Николай Васильевич?
— «Кто теряет связь со своею землёй, тот теряет и богов своих». Эх, Фёдор Михайлович, Фёдор Михайлович. Знал бы, что, не уезжая, теряют и, уехав, сохранить могут. Ибо корни не в земле, а в совести и вере. Но не ведают того ни екатеринодарский, ни иркутский губернаторы. Не замечая, что кемеровский не подаёт давно им руки.
— Это вы о наших? Но для чего говорите мне?
– Вы уже знаете то, чего не знает свет… но вы тут же подымаете заздравный кубок и говорите: «Да здравствует простота положении и отношении, основанных… на здравом смысле, положительном законе, принципе равенства и справедливости!». Смысл сказанного необъятно обширен. Целая бездна между этими словами и применениями их к делу. Если вы станете действовать… то, прежде всего, заметят в ваших руках эти заздравные кубки, до которых такой охотник русский человек, и перепьются все, прежде чем узнают, из-за чего было пьянство. Не следует… праздновать настоящий миг своего взгляда и разуменья. Он завтра же может быть уже другим; завтра же мы можем стать умнее нас сегодняшних.
— Я согласна с этим уже несколько месяцев… но… как же суд общественный? Вы ведь переживали его всю свою жизнь?
– Что же касается до публики и до суда общественного, то скажу вам откровенно… несмотря на почувствованную вначале неприятность, это не могло меня сильно поразить… меня теперь это не смущает, так я уверен, что судить меня будет тот, кто повелел быть и миру, и нам, и ведает мысли наши в их полноте… В издании моей книги я никак не раскаиваюсь и благодарю Бога, её допустившего. Без этой книги не нащупать бы мне самого себя… Но у вас в руках такая же.
— Такая же? — Ирина Александровна растерянно посмотрела на свои руки. — Я помню, письмо к Анненкову, в августе восемьсот сорок седьмого… А вот о книге? О какой вы? И почему письмо не вошло в «Выбранные места из переписки…», единственно достойную человека рукопись, как вы считали? Неужели и сейчас называете остальные свои труды «мараниями»?
– Как и Лев Николаевич считал дневники, а не романы главным наследием своим, так и письма любого человека есть дыхание любви, пусть неслышимое другими. Потому и штука не в наших мараньях, но в том, что благодать Божья озаряет наш ум и заставляет его увидеть истину даже в этих мараньях… К тому же я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои.
— Но меня гнетёт не только публика, но и коллеги… близкие…
– Как моё болезненно тяжелеющее на мне тело…
— Вы полагаете связь?
— Суть одна. Мертвы и те, кто гнетут, и тяжелеющее на вас.
— Бабушка! А почему тяжелеющее… разве бывает так? Разве тело «на мне»? Оно ведь моё, — неожиданно прервала удивительный диалог внучка.
— Так сказано в одной книге, дорогая моя: «…и дал Бог им одежды кожаные…».
— А что, до этого были другие?
— Другие, Юля, в раю были другие, родная. Потому и тяжелеют они на нас, умирая, но требуя непрестанно своё. И кто откликается на их зов, тот умирает вместе с ними… с одеждами кожаными…
— А кто нет? — принимая по-прежнему за игру всё происходящее, хитро улыбнулась девочка.
— Тех можно услышать, но нужно захотеть. Я захотела в пятьдесят.
— Я и так слышу всех…
— Нет. Ты слушаешь. Как и все люди. А услышала лишь сегодня. Потому что полетела со мной. Как и я, решив однажды улететь. От других… и голосов их сладких… — задумчиво произнесла Ирина Александровна. — Ведь только бросив всё, ты «слышишь и знаешь дивные минуты. Когда создание чудное творится и совершается в душе твоей, и благодарными слезами не раз наполнятся глаза твои. И поймёшь тогда, что…»
— Искусство есть примирение с жизнью, — тихо вмешался голос. — Это правда… не устремляешься на порицание… другого, но на созерцание самого себя. Если же создание поэта не имеет в себе этого свойства, то оно есть один только благородный горячий порыв… Не назовется созданием искусства. Поделом! Искусство есть примирение с жизнью!
— Жуковскому… — прошептала Ирина Александровна. — Значит, автор был прав… — женщина задумалась. — Не совершенствовать искусство своё, рождая новые формы. Не в экспериментах над ним творчество и не в «особом» видении. А в изменении себя, одного себя. Тогда и лишь тогда оно пойдёт вслед, открывая эти формы, новизна которых только и непременно в одном: делать «особое» доступным и необходимым всем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу