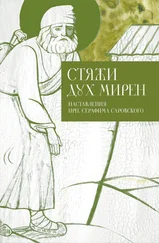Пушкин, Пушкин, расскажи мне,
Как весну б ты описал?
Для лицейской стенгазеты
Что бы ты такое дал?
Я пишу вот о волненье,
Что навеяно весной,
Призываю вдохновенье —
Не в любви оно со мной …
Пушкин мне не отвечал, и я обратился к Ковалю. Он ответил за Пушкина:
И сказал тогда мне Пушкин:
— Не пиши ты про весну.
Уолстритовские пушки
Вострят жерла на войну.
Если ты поэт-кумир,
Напиши ты стих за мир!
Голос Пушкина утих,
Встал он, бронзою звеня.
Написал я этот стих
Про него и про меня.
Другой раз я сочинял «речёвки» для торжественной встречи новых первоклассников с выпускниками. Один зачин — от малолеток — у меня замечательно получился:
Мы же станем учиться старательно,
Чтобы вашею сменою быть…
Но далее не шло. Я просил о помощи Юрку. Он уклонялся. Я взывал к его совести. Совести не было. А когда чуть-чуть стало совестно, что совести нет, он всё же помог — совершенно бессовестно. Посидевши минуту, Юра подал мне листок. В нём было:
Мы же станем учиться старательно,
Чтобы вашею сменою быть…
И не будем ругаться мы матерно,
И учительниц будем любить!
И вот настало время нам всем, не рассуждая, писать на заказ — сочинение на аттестат зрелости. Вовка ушёл в себя и отдалился. Юрка нервничал, его напрягали родители. Я же был равнодушен, ведь писать предстояло ради себя, тут не было служения людям. А Юрка нуждался в поддержке, и мы с ним готовились вместе.
У Юрки, в Хоромном тупике, мы просидели почти всю ночь. Утром Юрина мама нас разбудила и напоила чаем. Это был не просто чай. Ольга Дмитриевна всё понимала. Она знала, что надо нас взбодрить. Поэтому в наши стаканы были капнуты капельки рому. Даже только произнесение этого таинственного, стивенсоновского слова в 1955 году уже нас взбодрило.
Мы с Юркой бодро шагали, чувствуя себя превосходно, и Юрка в ритме бодрого шага (конечно же, в ритме!) бодро пел, отмахивая ритм рукой:
Тогда мы с тобой получили бы пять,
Когда бы пришлось нам наверно узнать
Три те-е-мы!
Три те-е-мы!..
Исполненный угроз Кронгауз
Мы с Юрой Ковалём просто устали. Иным ничем не объяснишь то, что с нами случилось. Всё было тем осложнено, что мы ни физику, ни математику совсем не понимали. Мы готовились к экзамену по физике и вместе потихонечку одуревали. И где-то что-то треснуло и стало рассыпаться. Я вдруг почувствовал, что Юрка цепенеет и уходит далеко в себя. Со мной не лучшее происходило, но Юрка тоньше был организован, он просто уплывал. Повисла долгая, всё тяжелеющая пауза. Потом продавились ненужные слова:
— Ну, что?..
Молчание.
— Так я пойду?
Тишина.
Уходить выпадало мне, и я почувствовал себя изгнанным, и так ушёл — с трагедией в душе.
Наутро был экзамен. Я вошёл в школьный двор, там кучкою стояли наши, и среди них Коваль. Со всеми надлежало здороваться за руку. Мне с Юркой обмениваться рукопожатием совсем не хотелось, но и оглашать наше с ним деликатное взаимоположение никак было нельзя. Мы холодно, в глаза не глядя, ладонями соприкоснулись. И — так пошло, поехало.
Экзамены прошли, всё удалось нам, что надо, списать , и мы получили аттестаты. Только поступать на литфак вместе с Юркой я уже не хотел. Нам двоим там не было места.
Троюродный брат мой Вадька кончил школу годом раньше меня. Вообще-то мы все — Вовка, Ромка, Вадька и я — ещё детьми не мыслили себя вне моря. Поэтому Вовка, старший из нас, после школы поступил в военно-морское училище, Вадька, к превеликому ужасу родителей-геологов подался в мореходку, а я к десятому классу обнаружил в себе близорукость, и вопрос о море сам по себе отпал. Да и Ромка, слава Богу, вовремя остыл и теперь превосходнейший врач…
Мореходка, куда поступил Вадька, располагалась в тогдашнем Ленинграде и готовила кадры для торгового флота. В этом рассаднике славных традиций сухопутно-матросского буйства творилось такое, что Вадька, оттуда вышебленный, через полгода вернулся в Москву, по счастью избежав тюрьмы, но с признаками обучения: проломленной головой, чудовищной гематомой глаза и хорошо освоенной начальной стадией матросского алкоголизма.
Вся Вадькина семья была геологической: папа-профессор, мама-профессор, старшая сестра и муж её — доктора геологических наук. Пусть Вадькин опыт был для семьи ужасен, но всё же он вернулся в лоно… Ан нет! он твёрдо заявил, что ни в какой геологоразведочный поступать ни за что не станет, а летом снова будет пробиваться в мореходку, без которой отныне жить — это значит не жить. Месяца три его умоляли, потом он сказал:
Читать дальше