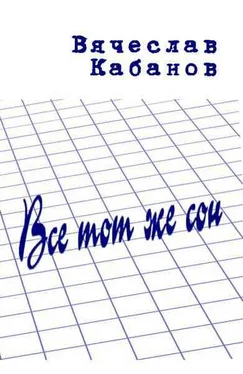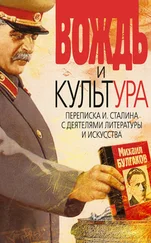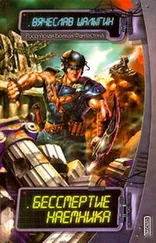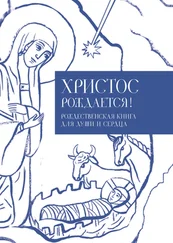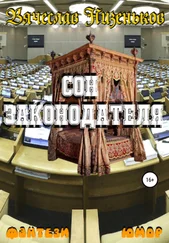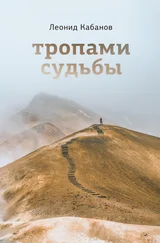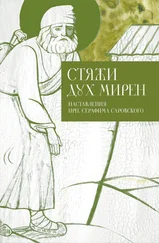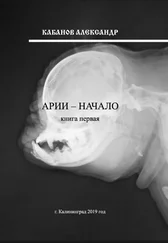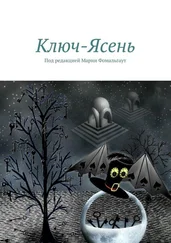Когда Коваль учился на первом курсе, а я пока что тоже был в Москве и кочегарил, он подарил мне номер институтской многотиражки со своим опубликованным рассказом.
Поперёк листа газеты Юра написал коричневым карандашом:
Дорогому Слафе 1-й серьёзный труд.
Дай бог не последний.
Слово Бог мы все тогда писали со строчной. Юрка же у нас (ещё в школе) был всегда Юркой, а мы с Митрошиным Вовкой в нашем узком кругу именовались: Вофа и Слафа.
Рассказ был очень небольшой и назывался «Дождь». Он начинался так:
Шалаш был сделан из еловых веток и протекал… Если б была здесь она! Но я прекрасно знал, что она не любит ни охоту, ни меня. Почему же не помечтать?
Я Ийку знал, но я не знал, и я никак не мог понять: ну почему она не любит Юрку? Это было совсем ненормально. Конечно, Ийка, она была такая, что я и не берусь что-либо о ней сказать хотя бы немного описательное… Но ведь и Юрка, чёрт возьми, да разве на кого-то в мире был похож?! Ну, разве что на брата Борю…
Я думаю, что Юра с Ийкой в конце концов поженились, потому что Юрка пришёл в институт, и невероятная концентрация его всемирной влюблённости оказалась немного разбавленной иными впечатлениями. Ия, бедная, наконец-то смогла рядом с Юркой нормально дышать.
Нет, вы подумайте, куда пришёл Коваль! Он сам об этом рассказал:
Пришёл месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института.
«Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал огромнейший Главный зал…
Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебристый свет, заливающий его пространство, подчёркивал северность этого храма науки…
Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имён занял бы сотню убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.
Ну вот хотя бы — Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Пётр хотя бы Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лёшка Мезинов, ну Эрик Красновский… А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агриколянский? А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в своё время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком…
Пусть простят меня те, кому покажется, что неуместно собственную книгу оснащать божественною прозой Коваля, но я, хоть с ними и согласен, всё же отчасти разделяю и недоумение булгаковской Настасьи Ивановны, тётушки Ивана Васильевича, которая, узнав, что Максудов сам сочинил пьесу, тревожно спросила:
— А зачем?.. Разве уж и пьес не стало?.. Какие хорошие пьесы есть. И сколько их!
Чего же я — после Коваля — сам буду институт описывать?
И кстати, про «две важнейшие скульптуры».
У входа в центральную Девятую аудиторию, под пасмурным стеклянным сводом в наше время стояли монументальные гипсовые фигуры Ленина и Сталина, своими спинами загораживая изящную нишу с широкой белой чашей и ниспадающей в неё струёй воды из белой львиной пасти.
В 1984 году в издательстве «Молодая гвардия» издали книгу Коваля «Самая лёгкая лодка в мире». Кроме заглавной повести, сюда вошло ещё несколько рассказов, а увенчала книгу небольшая изумительная повесть «От Красных ворот», где и рассказано про институт и его стеклянный свод. Тогдашняя цензура вздрогнула от странного упоминания «двух важнейших скульптур нашего времени» и попросила это снять. Пришлось «диковинным типам» толпиться просто «у ног огромных скульптур». А уже в 1993-м, когда я издавал в «Книжной палате» Юрин сборник «Опасайтесь лысых и усатых» (его название!), Юра подал в редакцию подлинный текст. Об этом Коваль рассказал Ирине Скуридиной в большом интервью не для печати, но Ира, слава Богу, потом, когда уже Юра ушёл, опубликовала этот разговор в «Вопросах литературы»:
Читать дальше