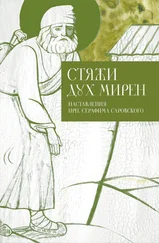Часам к двенадцати ночи, когда все в доме засыпали, я садился к столу, засветив несильную лампу, и делал все уроки… Ну, почти все. Конечно, для этого пришлось записывать домашние задания, чего я прежде не имел в привычке. На все мои уроки уходило два часа. Потом я ложился и спал сколько хотел, иногда до самой школы.
Зато за партой я испытывал блаженство. Мог слушать ход урока, мог думать о своём, читать, беседовать с соседом… Я был свободным человеком, готовым отстоять свою свободу ответом на любой вопрос. Но объяснение нового старался слушать, поскольку это упрощало домашнюю работу, а по устным предметам и вовсе её отменяло.
Только урок истории вводил мою свободу в рамки, потому что историю преподавал сам директор. Он вынудил нас иметь тетради по истории, и в ходе урока приходилось всё время что-то писать: то план, то даты, то вопросы, то выводы, а в завершение каждой темы Валентин Панкратьевич торжественно и грозно нам диктовал высказывания на этот счёт самого товарища Сталина и предлагал потом эту запись заключить в красную рамку или же красным всю её подчеркнуть.
Перед Новым годом директор подвёл итоги полугодия по всем предметам, кого-то поругал, кого-то похвалил… И вдруг сказал:
— Но особенно мне нравится работа Кабанова!
Мне стало почти что дурно — не от счастья, от изумления, а директор ещё рассказал, как не хотел пускать меня в восьмой и как я оправдал доверие.
А Вера Михайловна цвела и хорошела. Мы же путались в сетях приличий и для чего-то всё время искали какой-то герундий.
Но всё же из сетей рвались, и как-то раз Вера Михайловна хлопнула ладошкой по столу:
— Всё! Я ухожу из класса!
И двинулась решительно к дверям. Но у дверей её настиг речитатив Юрки Коваля:
— Не уходи, твои лобзанья жгучи!
Вера Михайловна засмеялась, ещё сильней похорошела и… осталась.
Неверно было бы сказать, что Вера Михайловна не отвечала нам взаимностью. Не сразу всем, конечно. Но у неё всегда был фаворит. Сказать по-школьному, любимчик. Уже в девятом классе досталось мне.
О, это было блаженство! Я на английском чувствовал себя прекрасно.
Вот наступает страшный миг, когда учительский взгляд начинает скользить по журналу. Сейчас кого-то вызовет! Я вижу, палец Веры Михайловны где-то в середине списка, ой, кажется, на мне задержался… Она взгляд на меня поднимает. Глаза её смеются и даже излучают какую-то телесную приязнь. Глаза беззвучно спрашивают:
— Ты как?
Глазами же я отвечаю: ни-ни-ни! И вижу, пальчик Веры Михайловны уже на букве эМ.
А контрольная работа! Бог знает, что там надо было делать… Я сижу со своим листочком и что-то чиркаю пером (возможно, что ищу герундий), а Вера Михайловна, как водится, прохаживается между рядами. Она подошла ко мне со спины, наклонилась и тихо спросила:
— Ну, как?
Я развожу руками, а Верочка Михайловна склоняется ниже, кладёт на плечо моё левую грудь, прижимается щекой к моей щеке и тихо объясняет, что мне надо сделать… Нет, делает сама.
Все буквы на моём листке расплылись, закружились, вместо слов льётся тихая сладкая музыка… О, если б навеки так было! Четвёрочка мне обеспечена.
Валентин Панкратьевич Мясин не дождался, пока мы окончим школу. Почему и куда он ушёл, я вообще-то не знаю. Это был исторический 1954–1955-й учебный год. Похоже, что историк наш попал под колесо истории. Уже обозначился слом, и первые ученики сталинских университетов иной раз из гнезда выпадали. Но первая четверть десятого класса прошла ещё при нём. Школа перестала быть мужской, и в каждом коридоре из двух уборных осталась нам одна. Но десятые классы не воссоединили. На первой же встрече с директором этот вопрос прозвучал. И Валентин Панкратьевич ответил:
— Коваль, ты о чём говоришь? К вам девочек пустить? Ты что же хочешь, чтобы мне при школе ещё родильный дом открыть?
В последний раз я видел нашего директора году в пятьдесят девятом, когда уже пришёл из армии. Валентин Панкратьевич сутулился рядом с моим домом, при входе в проходной Дом Двадцать. Он что-то думал и немного шевелил губами. В руке у него была авоська с кефиром и белым батоном. Двубортный костюм его увял, и лацканы понуро загибались книзу. Меня он не увидел.
Куда же делись вы потом, Валентин Панкратьевич, сталинский сокол, — наш славный директор 657-й мужской средней школы, что до сих пор на улице Чаплыгина, бывшем Машковом переулке? Только номер у неё теперь другой, и милые девочки опять не на наших сучочках сидят.
Читать дальше