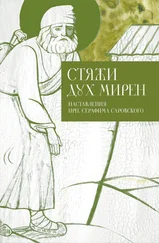Коваль, я потом это понял, не мог играть других. Он был удивительно, невероятно артистичен, но лишь для выражения себя — так был собой наполнен. Его предназначенье было — себя бы выразить, суметь бы это…
И вот в последний раз из студии мы уходили вместе. Мы шли в Армянском переулке. Мне было чуть не по себе. Уж дело к вечеру, темнеет, а мы не на своей территории. Законы улицы я знал. Мы с Юркой треплемся, а у меня в уме одно: пройти бы!
И вот, ну прямо как на грех… Стоят, как принято, кружком. Их было восемь. Я весь напрягся: пройдём или нет? А то пойдёт разборка — кто такие? И, может, не понравимся… Чем кончится? Тем более, что Юрка не драчун.
Мы ближе, ближе, они пока что ничего… Неужто пронесёт? А Юрка, чёрт, сворачивает прямо к ним:
— Ребята, закурить найдётся?
Ему спокойно дали. Он закурил, чего-то в шутку им сказал, и двинулись мы дальше. А Юрка даже в толк не взял, что мы прошлись по лезвию ножа.
Среди иных даров, у Юрки был природный и великий дар общения с людьми. Но вот играть других (я повторюсь) Юрка был никак не предназначен.
Когда в восьмом или девятом классе мы в нашей школе поставили несколько сцен из пьесы о дискриминации негритянского школьника в проклятой Америке (пьеса называлась «Снежок», а что до автора, то это никого не интересовало), с большим трудом уговорили Коваля сыграть директора школы, расиста. Актёров у нас не хватало, а пьеса нужна непременно, без неё нельзя было на вечер пригласить женскую школу. Юрка согласился только потому, что весь текст его роли состоял из одного слова. Директор входил в класс, видел негритёнка (Снежка) и злобно кричал:
— Вон!
Вот и вся роль. Коваля устроила такая лапидарность, но всё-таки, войдя в игру, он ощутил недостаточность масштаба. Тогда масштаб этой роли Юра придал самостоятельно.
Для начала в слове «вон» он отыскал двенадцать слогов и на премьере все их произнёс. К великому несчастью, это не передаётся ни на письме, ни в звуковой попытке. Но это ещё не всё! Ещё был жест. При произнесении слова «вон» надлежало указать пальцем на воображаемую дверь. Жест Коваля стал тоже двенадцатистопным. Он вынул правую руку из левого заднего кармана штанов, и эта Юрина рука, как освобождённая пружина, завибрировала, завертелась и, отделяясь от тела, пославшего её, в двенадцатистопном ритме без единой цезуры устремилась жуткими зигзагами неизвестно куда. Но бедное Юрино тело, не желая лишиться руки, устремилось за нею вслед и, не выдержав неправдоподобного ритма, рухнуло на пол, обретя наконец-то цезуру.
Актёры в конвульсиях согнулись пополам и рухнули все вместе, а следом рухнул и зал. Это был грандиозный успех!
Посвящается Екатерине Юрьевне Гениевой, как и было обещано, когда я публично прочитал эту главу в Овальном зале Иностранки.
И всё отчётливей я чувствую: выдавливает меня из сферы человеческих общений напирающий английский язык. А не ему ль я отдал своих почти пятнадцать лет?
В третьем классе явилась к нам новая учительница, довольно миниатюрная брюнетка с тяжеловесным именем Саламыда Давыдовна. Мы раскрыли учебники и на первой странице увидали родимую пятиконечную звезду, а под ней непонятную подпись.
— Э ста-а-а, — произнесла Саламыда Давыдовна.
Это было легко. Игра могла бы получиться. Но выяснилось сразу, что это не игра, но и не жизнь. И только много-много лет спустя я как-то догадался, что добрая наша училка, непонятно чего от нас хотящая, звалась возвышенно и просто: Суламифь Давидовна.
Зато в пятом классе возникла Вера Михайловна Ш. Тут разговор особый. Ей было от силы двадцать два, и — не скажу про себя, был мало развит, — но в целом пятый «а», состоящий в основном из второгодников-рецидивистов, взыграл. Вера Михайловна оказалась не то что красавицей… Красавица, она скорей бы всех оцепенила. А из облика Веры Михайловны струилось нечто, что сразу привело мужской пятый класс в первобытное состояние.
Чувствуя приближение конца урока, Вера Михайловна начинала медленно отступать к дверям, стараясь делать это незаметно. Но зоркие глаза половых бандитов манёвр, конечно, замечали, и класс уже готовился к прыжку. Вот треснула первая трель, и Вера Михайловна рванулась, а ей наперерез скачут дикие кони. Она окружена, прижата к стенке, отбивается классным журналом, но копыта стучат, малорослые жеребцы жмут добычу под весёлое вольное ржанье. Так английский язык становился любимым предметом, потому что выяснилось вдруг, что для пятого «а» этот язык — природный.
Читать дальше