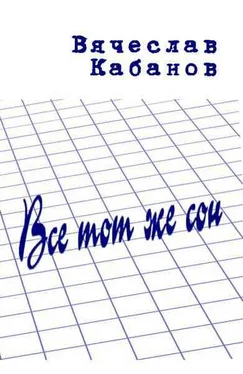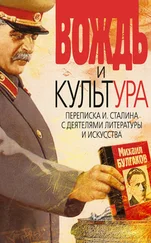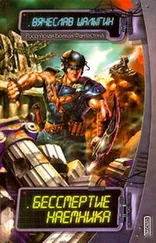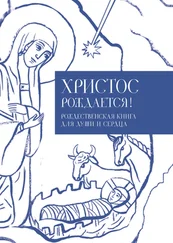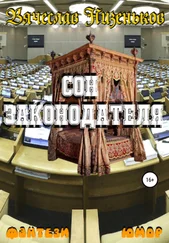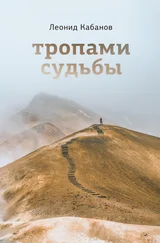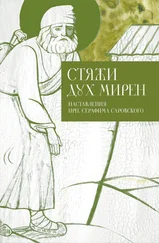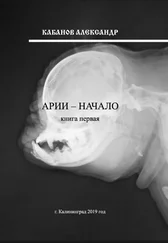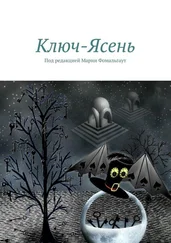Пока дети отдыхали в саду, мы отправились к сельскому старшине поговорить об отводе нам помещения в школе. Он обещал к восьми часам вечера приготовить нам две комнаты в Мужском двухклассном училище. В девять часов мы привели детей и уложили их спать. В 6 часов утра уже все были на ногах и спешили к морю купаться. Купались все дети с берега.
Здесь надо отметить, что баба Дуня употребила не случайное, а особливо точное, наше, геленджикское выражение «с берега». Это определённо и точно, как термин. Потому что в Геленджике — тогда и спустя сорок лет — купались не вообще, не просто так, а выбирая один из способов вхождения в море: «с берега», «с мола», «с пристани», «с лодки», «со скалы»… «С берега» медленно входят или влетают скачками, с дикими воплями, а в прочих случаях сигают — «головой», «ножками», «солдатиком» или «бомбочкой», поджав к груди колени и обхватив их руками. Про «ласточку» не говорю, потому что это для избранных и уже не купанье, а спорт.
И ещё. Поговорить об отводе помещения в школе отправились именно к сельскому старшине . Значит, к этому времени Геленджик был уже селом , а не деревней , какою оставался в тысяча восемьсот девяносто четвёртом году, когда Авраам Васильевич Юшко приобрёл у поселянина Ефима Бровко турлучный дом с огородом и садом. То есть в Геленджике к тысяча девятьсот восьмому году имелась та самая церковь с голубыми куполами, что вскоре после войны, когда остыл сталинский «дух предков», преобразовали в склад, а в новейшее время опять восстановили. Ведь именно наличие церкви давало право деревне зваться селом.
В дневнике бабы Дуни так же точно отмечается, чем и как кормили детей. Утром — чай, днём — обед и вечером — чай.
Чай пили дети с молоком и белым хлебом. Один кусок намазывался сливочным маслом, а вообще хлеба давали сколько кому хотелось. Чаю пили по 2–3 чашки… Обедали в 2 часа. Обед состоял из борща с мясом. Давали детям по две тарелки, кто спрашивал, а на второе были макароны. После обеда раздали конфекты, данные нам в дорогу… Вечером пили чай с хлебом и получили по два яйца.
На другой день отправились на гору Маркотх, «между Геленджиком и Адербиевкой», а когда поднялись на вершину…
Перед глазами открылась голубая даль моря. Там и сям белели паруса лодочек, а на горизонте виднелись и дымок парохода, и паруса больших парусников. Внизу лежал Геленджик и цементный завод, а под северным склоном, внизу, раскинулась горная деревушка Адербиевка, посредине которой вьется быстрая Адерба.
Может быть, баба Дуня и не была мастерицей словесного пейзажа, но тем, кто любит Геленджик, её простые учительские зарисовки и много говорят, и душу греют. Если вспомнить, что увидел с этого места конный черкес, сравнить с только что нарисованной картиной, а потом сопоставить с тем, что видели мы через сорок лет, поймёшь, что и черкес, и екатеринодарские ребятишки, и послевоенные пацаны познали на этом месте одно и то же чувство — восторг. Пусть черкес не видел ещё деревушки , а видел свой родной аул Адербе, и мы уже не видели цементного завода, и Адерба при нас уже не вилась, а пробивалась ручьями от заводи к заводи, но всегда Геленджик был прекрасен. Мы находили голубой купол геленджикской церкви, а от него уже легко прочерчивался короткий путь до скромной крыши нашего дома, чуть-чуть проглядывающей сквозь листья платанов и тополей.
26 июня.
После купания и чая пошли на Тонкий мыс. Выходя из дому, хотели осмотреть северную сторону и нечаянно прошли до мыса. Дорога была очень легка, дети шли, играя и подпевая всю дорогу. За заводом купались, а придя на Тонкий мыс, купили хлеба, огурцов, помидоров, соли и на берегу моря в лесочке подкрепились…
Хорошо!
А тут ещё совсем недалеко от берега завели свои игры два дельфина — вот уж тут дети твёрдо решили, что « море лучше Карасуна и даже Кубани ».
Ко времени этой поездки в обширном семействе бабы Дуни, где всегда было много «чужих», но таких же своих, без разбору, — сложился обычай каждое лето ходить «по святым местам», как это у них называлось. Непременно всегда посещались Фальшивый, Джанхот, Михайловский перевал, Лысая гора, Криница и Широкая щель… Тут выходит, не случайно от бомбёжки мы в Широкую щель уезжали, и я просыпался в яслях, как младенец Иисус, в святом-таки месте.
В тот раз, о котором рассказывает дневник, с такой оравой весь круг паломничества было не совершить, но всё же на Михайловский отправились. Николай, добрый друг с Перевала, сам с лошадьми приехал и уговорил. Утром и тронулись.
Читать дальше