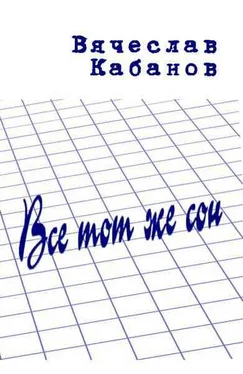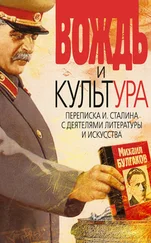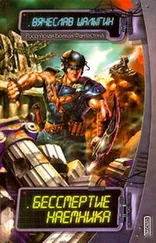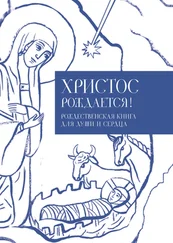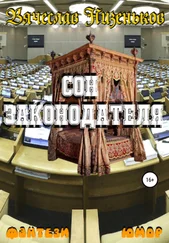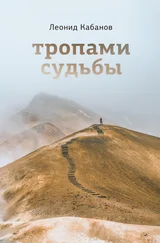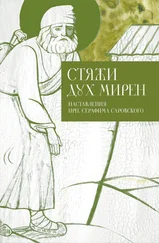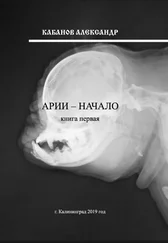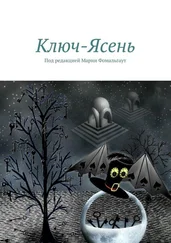Я этого вначале ничего не знал и не предполагал, что влезаю в петлю. Руководство пионерским лагерем мне виделось преимущественно с воспитательной стороны, к чему я был готов. Забегая вперёд, скажу о воспитательных идеях. Когда уже лагерь завёлся, придумал я хороший ритуал для общей вечерней линейки: пионеры образуют стройные ряды и по сигналу старшей пионервожатой скандируют с чувством восторга:
— Спасибо начальнику лагеря за наше счастливое детство!
Жаль, не осуществил.
Но это всё потом. Вначале было слово. И слово было: ужас.
Была пустая школа, пустой обширнейший двор, и здесь мановением моей руки должен был произрасти пионерский лагерь — с кроватями и их убранством, с кухней и столовой, с вожатыми, воспитателями и поварами…
Как сделать мановение руки?
Спасибо, кто-то подсказал, что нужен мне завхоз. И женщина нужна, которая будет зваться делопроизводитель : для оформления всяких документов.
Дамочка какая-то нашлась, а завхоз — был же в школе, и летом он свободен…
Алексей Степаныч, с которым в морозные дни мы пили принудительную водку, на мой вопрос, не пойдёт ли он ко мне в завхозы, отвёл глаза (всё же совесть была!) и сказал:
— С вами (!) — пойду.
Ах, как же он потом меня крутил! Раз в неделю махал рукой и говорил, что, мол, всё, ухожу! А я («Не уходи! Тебя я умоляю…») вручал ему двадцать или тридцать рублей. У меня ведь была чековая книжка, по которой я брал в банке наличные, сколько захочу…
Тут надо пояснить. Бюджет лагеря складывался так. Детишек присылали от различных предприятий из многих близлежащих посёлков. В банке открыт был мой счёт, и на него, в соответствии с установленной нормой содержания одного ребёнка за одну лагерную смену, предприятия перечисляли деньги. Потом ещё — произвольные суммы — «на усиление питания».
Конечно, я по закрытию лагеря должен был представить в банк финансовый отчёт, но банк сам денег не давал и не отвечал за чужие. Так что отчёт — это была просто письменная работа с долей фантастики и простой арифметики, что меня затруднить не могло.
Но тут я отвлекусь от лагеря, чтобы найти подходы к главной моей теме.
* * *
В конце 1987 года мы с Ириной составили для молодого тогда издательства «Книжная палата» публицистический сборник «Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы». Теперь, наверное, уже забылось, как будоражили тогда буквально всех журнальные, газетные статьи.
Ещё существовала система лимитов на бумагу и «полиграфические мощности», и наш сборник вышел жалким тиражом… в шестьдесят пять тысяч экземпляров! Он стоил два рубля, а перекупщики продавали за двадцать. Оформил книгу сам Михаил Аникст, но сильно задержал процесс: зачитывался рукописью. Обсуждение же вышедшего сборника в Доме культуры МГУ в переполненном зале длилось шесть часов без перерыва. Такие фантастические цифры.
Институт книги проводил тогда опросы, исследовал движение читательских предпочтений, и родилась идея с помощью социологов Института выявить наиболее популярных, самых любимых публицистов года и сделать сборник их статей — от каждого статья, специально для сборника написанная.
По целой серии опросов определились двенадцать лидеров 1988 года, статьи им заказали, пошла работа. Книгу же решили назвать так: «В своём отечестве пророки?»
В марте 1989 года, накануне выхода сборника созвездие двенадцати лауреатов собрали в Красных палатах на Остоженке для вручения им Почётных дипломов Института книги. Полукругом на стульях уселись: Николай Шмелёв, Андрей Нуйкин, Василий Селюнин, Анатолий Стреляный, Гавриил Попов, Отто Лацис, Наталья Иванова, Юрий Карякин, Аркадий Ваксберг, Фёдор Бурлацкий и Геннадий Лисичкин (Юрий Черниченко не смог прийти). Звучали лауреатские речи, была дискуссия, снимало Центральное телевидение. Мне выпало вести всё это действо.
Я с микрофоном на длинном шнуре метался меж публикой и пророками, всё шло замечательно, приближаясь к точке кипения, а у меня имелось несколько заранее подготовленных вопросов, я их периодически кидал, чтоб раздувалось пламя… Среди моих вопросов был один — сакраментальный.
Когда-то, в дни ранней молодости, я восхищался Великой французской революцией: «Свобода, равенство и братство». Звучало это для меня, как упоительная музыка… Но…
«Ну как же, как же так? — сокрушался я. — Как могли они к этому прекрасному лозунгу вдруг приписать такую мерзость?»
Теперь же думал я иначе и приготовил свой вопрос.
Читать дальше