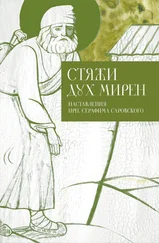Я птица, орёл, могу лететь от гор и мимо башен на чахлый пень… Зачем? — вы спросите меня… Но даже некому спросить.
Да успокойтесь, я ничего безумного не сделал, но ощущение запомнил. И так живу — с желанием ощущенье это снова испытать.
Я просто подал документы для поступления в институт, присовокупив фотокарточку с едва отросшим ёжиком.
* * *
Выпили — оказалось мало. Так бывает в России. В дверь позвонили, я открыл, и мне вручили бумажку. То был приятный, благородный короткий вызов в Армянский переулок для прохождения дальнейшей службы в рядах Вооружённых сил.
Потом я вспоминал об этом и думал, что вполне мог уклониться. Ведь мне же военком сказал, иди, мол, в институт… Не знаю, наверно мною ощущалось предназначение судьбы. Ну, уклонись я тогда, — вся жизнь сложилась бы иначе, и значит, это был и жил бы уже не я?..
10 июля 1956 года в пять часов утра я снова был в Армянском переулке, и всё повторилось, только на Пресню ехал я теперь не один, а со всеми и в грузовике. И пересылка была уже не тюремная, а военная — для новобранцев. Она располагалась от той немного в стороне.
Мы оказались за высоким забором, в большом дворе и уселись на травку. Сидели долго. Кто-то, вспомнив, что пил всю ночь, попробовал буянить. Старшины его взяли и по специально устроенному жёлобу спустили вниз, в подвал, где была по колено вода. А нас, небуйных, повели в другой помывочный пункт, и на выходе из него, в голом виде, как заново родившиеся, мы получили кальсоны, нательные рубахи, портянки, гимнастёрки и прочее. Ещё нам дали котелки, покрытые толстым слоем смазки, и алюминиевые ложки. Потом опять сидели на траве. И вот сказали, чтоб для обеда приготовить котелки. Во дворе торчал водопроводный кран, к нему все кинулись, толкаясь, но это было бесполезно, потому что холодная вода легко каталась по поверхности тавота, нимало его не тревожа. Тут кто-то, практически умный, стал рвать траву, и через десять минут весь двор сделался голым, а котелки мы посчитали пригодными для пищи.
И вот мы на платформе, и духовой оркестр бьёт прямо в голову, и ничего нельзя понять. Стоял такой же товарняк, и мы пошли в телячьи вагоны.
Я забрался на верхние нары, прижимая к себе рюкзачок, в нём была всякая мелочь, хлеб и кусок варёного мяса. Я маме говорил, что не надо, что нас с первого дня поставят на довольствие, но всё-таки в последний момент мама сунула мне хлеб и это мясо, вынутое из борща. А тут как раз нам объявили, что мы, конечно, на довольствии, но питанию во время следования в эшелоне положено быть двухразовым. Ай, мама!
Рядом со мной лежал спокойный тоненький мальчик. Оказалось, что зовут его Фридрих, но он не был немец. Он был Фридрих Николаевич Черёмухин и жил совсем близко от меня, в Фурманном переулке. Он лежал на спине, под головой рюкзак, молчал и курил сигарету.
Кругом все галдели, рассуждая о будущей службе. Беспокоились, зачтётся ли нам летняя служба или счёт пойдёт только с осени, от приказа… Говорили, что хорошо бы попасть в писаря… Но более всего отчего-то беспокоились о здоровье, хотя преобладала мысль, что в армии режим, а это хорошо, и мы поздоровеем. Склонялись к тому, что надо бросить курить.
Я ещё не курил (курили Вовка с Юркой), и я спросил Фридриха, не захочет ли бросить и он.
Фридрих всё так же молча лежал, чуть прикрыв умные, чуть пушистые глаза, но мне ответил. Говорил он тихо, размеренно и на собеседника не глядя.
— Видишь ли, нас насильно оторвали от привычной жизни. Лишили очень многого. Так зачем же я буду ещё и сам лишать себя последнего удовольствия?
У Фридриха была колбаса и какие-то сухарики. Мы понемногу ели эту колбасу, а мясо берегли. На третий день оно протухло. Ничего на свете нам не было так жалко, как этого мяса, потому что утром нам вливали в крышку котелка какой-то водянистой жидкой каши, после которой нутро начинало грызть самоё себя, и это длилось до самого вечера, когда крышку такой же кашкой наполняли совсем не до краёв, и голод терзал, пока его не приканчивал сон. И это длилось восемь суток. А вот куда мы едем, мы этого не знали.
18 июля наш товарняк окончательно остановился, мы пересели в грузовики, и прозвучало слово «целина», а неделю спустя президент Египта Гамаль Абдель Насер издал декрет о национализации Всеобщей компании морского Суэцкого канала. Ни мы об Насере, ни он про нас, ничего, конечно, не знали.
Мы ставили палатки посреди степи, набивали соломой матрасы и сколачивали из Бог знает чего невысокие нары, а рано утром проснулись уже солдатами.
Читать дальше