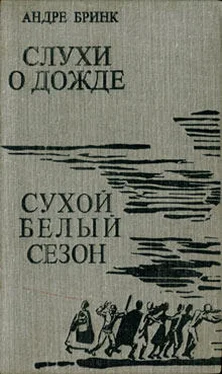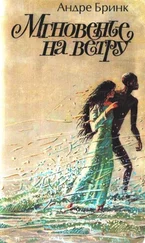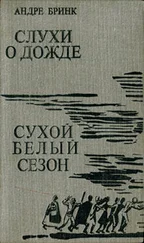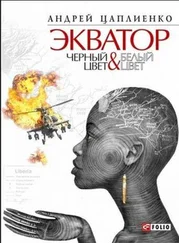— Nkosi sikelel’ iAfrika.
Все случившееся в тот уикенд, даже убийство, само по себе было не столь уж важно. Я все яснее понимаю это. Существенны были не сами события, а то, что вовлекалось ими в общий водоворот. И если я ощущаю потребность описать все это, то отнюдь не из желания просто довести повествование до конца (это не та цель, к которой я стремлюсь, мне совсем не хочется встречаться с тем, что меня там поджидает). Мною движет совершенно иное: стремление к основательному прояснению всех событий с отчетливым пониманием того, что этого нельзя делать в спешке. А время идет, я пишу уже пять дней.
Я никогда особенно не прислушивался к прогнозам «Римского клуба», однако в их первом докладе был образ, прекрасно передающий мое нынешнее состояние. Это детская загадка, демонстрирующая внезапность, с какой данная величина достигает внутри определенной системы фиксированного предела. Водяная лилия, растущая в пруду и ежедневно удваивающая свои размеры. Если позволить ей расти свободно, она за тридцать дней покроет весь пруд и убьет в нем все живое. Долгое время растение кажется маленьким, и вы не беспокоитесь, не подрезая его. Наконец оно занимает полпруда. На который день это случится? Разумеется, на двадцать девятый. И тогда на спасение пруда у вас останется всего один день.
* * *
В ту ночь на ферме было страшно тихо. Не скрипели половицы и балки на потолке, не вздыхали во сне собаки, не стрекотали сверчки. Я даже не слышал дыхания Луи. Должно быть, какое-то время я спал и видел кошмары, но потом проснулся. Усталость тяжелой рукой придавила меня к постели, но снова заснуть не удавалось.
Несколько часов назад в этой же самой тьме произошло убийство, но сейчас оно казалось почти нереальным, просто частью долгих ночных кошмаров. И все же я вместе с остальными переносил тело с холма.
Рядом со спящим мужчиной и спящими малышами эта обнаженная молодая женщина с крепкими грудями, плоским животом, волнующей линией бедер и длинных ног. И раны на теле, словно маленькие мокрые губы. В той сцене была простота, потрясшая меня. Назовем ее невинностью.
Даже в глубине моих мыслей не было похоти. Мое отношение к красивому неподвижному лицу и прекрасному телу было достаточно отстраненным, «эстетическим». Но меня поразило то, что чернокожая женщина может быть столь красива. Лежа в постели, я вспоминал ее тело и отказывался верить своей памяти.
Из комнаты матери порой доносился сердитый плач младенца, а затем слышался ее голос, убаюкивающий ребенка. Ее голос будил нечто атавистическое в моем подсознании и в то же время словно подтверждал реальность того, что произошло сегодня ночью. Да, это действительно произошло, женщина была мертва.
А случилось бы это, если бы я не устроил нагоняй Мандизи? Бессмысленный и нелепый вопрос.
Но особенно заинтриговала меня той ночью (да интригует и сейчас) неожиданная вспышка первобытной дикости всего в нескольких сотнях ярдов от нашего дома. Словно весь примитивный невидимый мир на мгновение приоткрылся мне благодаря этому варварскому поступку. И не просто «их» мир, «их» образ жизни. Приоткрылось нечто более темное и значительное, нечто относящееся к самому нутру фермы, столь же таинственное и опасное, как подземные источники под домом, о которых мы никогда не подозревали. Мне трудно определить это точнее. Помню только, что все это чрезвычайно взволновало меня. До сих пор я был поглощен воспоминаниями об отце и нашей историей. Но где-то таились иные силы, чуждые отцу, — силы, быть может, более родственные тому юноше, что спал сейчас напротив меня в темной комнате.
Мое детство. Каникулы на нашей ферме, долгие уикенды на ферме моего друга Гейса в десяти милях от города среди скалистых хребтов и голых холмов. В моем жизненном опыте уже тогда было много жестокости, той жестокости, которую и осуждать-то невозможно. Более примитивной. Бродя по вельду, там, откуда можно было наблюдать полет ястребов, я порой натыкался на мертвую газель, уже наполовину съеденную, с зелеными экскрементами в развороченных кишках, с измазанной грязью шкурой. Или на отбившуюся от стада овечку с выклеванными глазами, с кровавыми дырами в обезображенной голове, с языком, вывороченным из еще блеющей пасти. Рождество в деревне, когда фермеры приводили на убой овец для Женского благотворительного общества. Мясо, аккуратно завернутое в коричневую бумагу и упакованное в провощенные коробки вместе с мукой, сахаром, кофе, свечами, сгущенным молоком, сладостями и маслом, рассылалось потом беднякам. Почему-то — мать была не то председателем, не то секретарем общества — овец всегда резали у нас на заднем дворе. Этим занимался работник с фермы, но я стоял поблизости, и порой он позволял мне держать овцу за голову, чтобы оттянуть ее назад и обнажить овечью шею для быстрого и острого как бритва ножа. Теплая красная кровь заливала мне руки и одежду. Но в самом этом ужасе таилось нечто притягательное. Запах крови, навоза, мочи — запах смерти. Во встрече со смертью было и подлинное открытие жизни, обогащающее и придающее сил. Примитивная невинность. (Опять это слово.)
Читать дальше