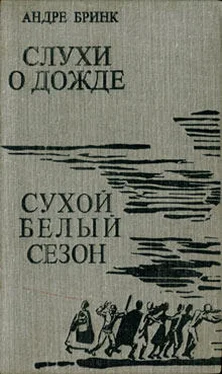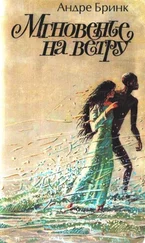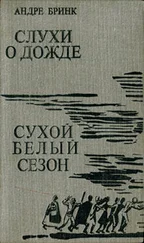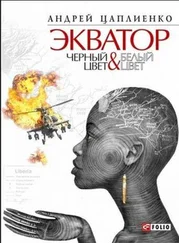— Господин председатель, вы должны простить нас, нам надо…
На что отец сурово спросил его:
— Сержант, вы родились заново?
— Я что?
— Родились заново волею господа нашего Иисуса Христа?
— Я, я думаю, да…
— Братья, — обратился к присутствующим отец, — давайте помолимся за душу нашего нового друга.
И прежде, чем сержант успел запротестовать, они с воодушевлением затянули новую бесконечную аллилуйю.
На дворе уже стемнело, когда отец наконец сказал:
— Сержанты, если вы дадите нам свои адреса, мы с радостью посетим вас, чтобы продолжить божье дело.
Если верить отцовскому рассказу, эта перспектива так ужаснула полицейских, что они навсегда оставили группу в покое.
— Но конечно, — продолжала мать, — с тех пор, как мы переехали на ферму, он ко всему утратил интерес. Видит бог, я всегда пыталась помочь ему.
— Я знаю, мама.
— И когда он наконец отошел к предкам здесь, на родной земле…
Я сидел, поглаживая резной подлокотник кресла.
— Мы всю жизнь были во всем новичками, — печально сказала она. — Никогда ничему не могли научиться. И каждый раз все начинали с нуля.
Я не хотел встречаться с ней глазами.
— В тот день, когда его хоронили, сынок, я впервые почувствовала у себя под ногами твердую почву. Как будто мы с ним наконец угомонились. Пустили корни.
Залаяла собака. В дальнем конце двора послышался шум мотора, затем снова смолк, потом опять загудел. Луи возился с движком.
Этот звук вернул мать к действительности.
— Я не собиралась мешать тебе. Просто захотелось немного поболтать.
— Спасибо, мама.
— Мне надо идти.
— Посиди еще, если хочешь.
— Нет, пора за работу. А тебе, по-моему, надо еще о многом подумать. Пожалуйста, положи папку на место, когда будешь уходить. Ладно?
* * *
Казалось бы чего проще: послушаться мать, поехать в Йоханнесбург и расторгнуть контракт. Я всегда могу извиниться, рассказав Калицу об оговорке в отцовском завещании. Мне будет приятно сознавать, что мать спокойно доживает свои дни на ферме. И, что, может быть, еще важнее, ферма останется за нашей семьей и на будущее. Хотя у нее и нет практической ценности, сам факт обладания ею действует как-то успокаивающе — словно некая моральная гарантия или страховка.
Но конечно, на самом деле все было гораздо сложней. Ни мне, ни министру так просто не выпутаться из этой истории. Ему надо было завершить свои манипуляции с администрацией бантустана, иначе все выплыло бы наружу, а я был вынужден продавать, иначе Калиц не успокоился бы, пока не разорил бы меня.
Рассуждать и спорить было уже поздно — решение принято, и я прибыл на ферму объявить его.
А если бы выбор еще и существовал, то все равно ситуация была далеко не простой. Ибо требовалось сбалансировать не две сопоставимые величины, а две принципиально различные, две совершенно разные системы ценностей. Ферма имела отвлеченную, моральную значимость с включением сюда, если угодно, нашей истории, нашего патриархального прошлого, наших национальных традиций и, возможно, нашей свободы. Другими словами, она олицетворяла собой все то, с чем я давно отвык обращаться. Ибо на практике я всю жизнь имею дело с прямо противоположными категориями: компромиссами, рассчитанным риском, выигрышем, победой. Просто, для того чтобы выжить, мне нужно всегда оставаться на коне. Выбора у меня нет. Или быть на коне, или — в пропасть. Тот же выбор, с которым из поколения в поколение сталкивались мои предки, только в ином измерении. А я не собираюсь бросаться в пропасть.
Вопрос стоит так: сколько сентиментальности, идеализма и атавистического романтизма я могу себе позволить, не утрачивая вкуса к борьбе за существование? Сколько я могу на это бросить? Ибо это действительно было для меня роскошью. В моем случае истинная роскошь — это не дом, спроектированный для нас Тео, не «мерседес», не дорогая мебель, не хорошее красное вино или хлебные деревья в саду. Все это для меня стало почти привычным. Подлинной роскошью были свобода мечтать, свобода быть непрактичным. Да и свобода как таковая стала романтическим понятием.
У меня нет нужды верить в правильность жизни, которую я веду. Достаточно просто жить ею.
А для того, чтобы выжить, я должен считать все элементы жизни относительными и взаимозаменяемыми.
Не будучи циником, теряешь способность воспринимать реальность реально.
Конечно, я устал. Почему бы не признать это? Я выбрал изнурительный и опустошающий образ жизни. Уже поэтому было крайне соблазнительно принять то, что предлагала мать: покой и мир иллюзий. Но, понимая, что иллюзия — это только иллюзия, я не мог поддаться ее искушению.
Читать дальше