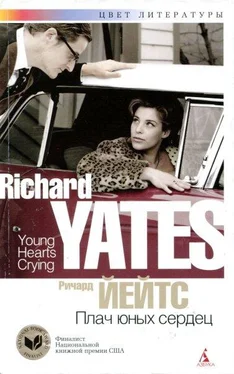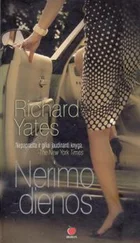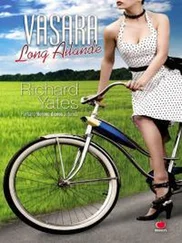Йейтс и соответственно его романный двойник Майкл Дэвенпорт думают об искусстве в других терминах. Основной творческий принцип Майкла мы узнаем на первой же странице: делать сложные вещи простыми. Не выдавать их за простые, а передавать сложность так, чтобы она обнаруживала в себе простоту. Забавно, что эту мудрость Майкл почерпнул на военных курсах. Она была подана ему как принцип профессионализма в любом деле. Значит, искусство есть для него ремесло? Да. Которому можно и нужно учиться? Конечно. Тогда почему обращение к этому ремеслу сопряжено с такими жертвами? Зачем отказываться от денег жены и обрекать себя на бессмысленную работу, зачем препираться с самим собой, оправдывая такое «попустительство», как бесплатное ветеранское обучение в Гарварде? Откуда кокетство? К чему щепетильность?
Похоже, «глубокомысленный бред» о Великом Трагическом Художнике кажется Майклу неприемлемым ровно по тем же причинам, что и культурный гедонизм Гарварда: поэтическое ремесло каким-то таинственным образом связано у него с внутренней самодисциплиной. Искусство есть работа над формой, но мастерство оттачивается исключительно ради внятного изображения важнейшего. И Полу Мэйтленду, с его спонтанным абстрактным монументализмом, Майкл вменяет в вину именно непрофессионализм. Он готов признать его искренность, но не может простить непроработанности. Самый тяжкий грех для Майкла — оторвать произведение от некой очевидной «жизненной правды», от соотнесенности с опытом человеческих переживаний, лишить его понятной другим душевной предметности. Отсюда — огромное раздражение, которое он переживает при виде беспредметной живописи.
Второй смертный грех — превратить искусство в развлечение. По сути, Майкл в этом вопросе разделяет позицию Сэлинджера, который, если верить воспоминаниям его дочери Маргарет, властно запрещал окружающим «баловаться» искусством даже в такой невинной форме, как получение искусствоведческого образования. Понимать искусство должны — в силу важности его предмета — все; заниматься его производством — только мастера, достигшие совершенства благодаря суровой самодисциплине. Искусствоведы излишни. Любительство непростительно.
Похоже, именно по причине этого своего убеждения ни Йейтс, ни Сэлинджер не получили в 1962 году Национальной книжной премии: как признался один из судей того года, романист Герберт Голд, ему хоть и нравилось, как пишет Йейтс, роман показался излишне монотонным — слишком много было в нем боли. «Если не получаешь от писания удовольствия, какой смысл продолжать?» — спрашивает Голд, тогда как оба финалиста того года прямо запрещают себе всякое связанное с творчеством удовольствие. Искусству, по их мнению, следует предаваться не иначе как с фанатичным упорством, разве что Сэлинджер обставлял предмет своего поклонения восточными ритуалами, а Йейтс выбирает в качестве своего ритуала саморазрушительную практику алкоголизма. Монотонная повторяемость как необходимая характеристика ритуала присутствует в обоих случаях.
Получается, искусство — занятие религиозное. Или, принимая во внимание отсутствие в этом деле какого-либо бога, занятие в кантовском смысле нравственное. «Писать» означает для Йейтса и его героя Дэвенпорта «исполнять долг». Какие здесь могут быть удовольствия? В этом смысле разногласия Голда и Йейтса исчерпывающе описывает шиллеровская эпиграмма на Канта:
— Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
— Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье.
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.
Однако перед кем этот долг? Почему именно искусство подминает под себя все традиционные сферы нравственности? Разве для исполнения долга не достаточно просто поступать по совести? Искусство не знает ответов на эти вопросы. Неясность адресата служения и неопределенность возмездия тревожат. Долг перетолковывается в долг перед собственным талантом. Опубликованные книги становятся вещными свидетельствами его исполнения. Майкл Дэвенпорт долго думает, что живет, только когда пишет. Лишь к концу романа он признает, что достоинство человека может измеряться не только количеством написанных стихотворений. Он идет по улице и вдруг понимает, что хорошие ботинки могут с тем же успехом служить вещным выражением его человеческого достоинства, что и тома, пылящиеся на полках университетских библиотек.
Читать дальше