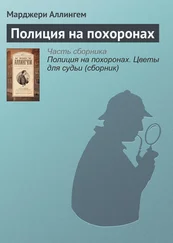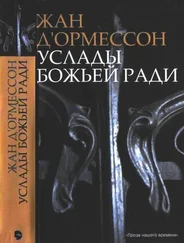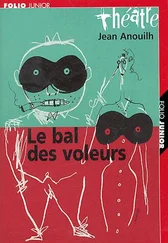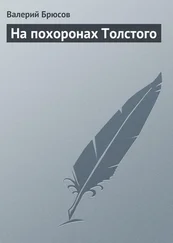Марго ван Гулип была на добрую четверть века старше меня. В отличие от Ромена, который никогда не переставал поддерживать с ней тесные отношения, моя жизнь пересекалась с жизнью Марго лишь иногда и через долгие промежутки времени. Я знал ее в Греции под именем Мэг Эфтимиу. Через многие годы я встретил ее под именем Марго ван Гулип. Что происходило до этого, между тем и потом, я знаю только по рассказам тех или иных людей, начиная с Бешира и самого Ромена. Блестящая жизнь Королевы Марго всегда была прикрыта туманной завесой.
Высокая таинственная брюнетка, которую мы встретили тогда на Патмосе, была гречанкой только по имени и по стечению обстоятельств. Она была родом с Ближнего Востока и могла считаться американкой, равно как и француженкой. Ей не было еще и двадцати лет, когда она в первый раз, еще задолго до Второй мировой войны, оказалась в Нью-Йорке.
Она сбежала из родительской семьи, возможно, для этого она использовала свое первое замужество, еще более таинственное, чем все последующие. С благословения Бешира, который не останавливался ни перед чем, чтобы ей помочь, и решил посвятить всю жизнь своему кумиру, она отправилась попытать счастья в Париж, это были как раз межвоенные «безумные годы». В те времена она звалась Мириам и была хороша до изумления. Со смелостью, присущей молодости, она представилась самой Коко Шанель, которая к тому времени уже десяток лет процветала на улице Камбон. «Великая Мадемуазель» быстро сообразила, какую выгоду можно извлечь из экзотической красоты молодой женщины. Это она дала своей протеже имя Мэг, которое стало знаменитым буквально на следующий день не только в ателье Шанель, но и далеко за его пределами. Американцы, взбудораженные французской модой (она тогда достигла своего апогея, впрочем, как и литература: имена Ланвен, Шанель, Скиапарелли, Баленсиага, Нина Риччи, Грес были не менее известны в мире, чем Бергсон, Валери, Клодель, Пруст, Жид, Поль Моран), пригласили Коко Шанель представить им свои творения, и она отправила к ним свою любимую модель и уже звезду подиума — Мэг. Она отплыла из Гавра на пакеботе «Иль-де-Франс», тогда еще совсем новеньком, и на нем многие молодые люди сразу же принялись ухаживать за ней. Не прошло и сорока восьми часов после того, как она проплыла перед статуей Свободы, как судьба ее уже переменилась…
…В толпе началось движение. Бешир бежал ко мне. Вдали показался похоронный фургон, въезжавший на кладбище. Ромен прибыл к нам. Густая толпа теперь выстраивалась вдоль аллеи, по которой медленно продвигался длинный черный автомобиль. Две или даже три сотни человек одновременно думали о Ромене. Большая коллективная душа, слагавшаяся из множества индивидуальных чувств, зарождалась сейчас вокруг Ромена — того, кем он был и кем перестал быть. Марина рыдала. У меня на глазах тоже были слезы…
Фургон проплывал вдоль живой людской изгороди: тех, кто любил Ромена, и тех, кто его ненавидел; тех, кто жил рядом с ним, и тех, чьи жизни только пересекались с его жизнью; людей равнодушных, кто отдавал здесь дань привычке или общественным условностям, и тех, чье сердце было разбито горем. Бешир закрыл лицо рукой, Андре Швейцер поклонился, я осенил себя крестом. Глаза нескольких молодых женщин были красны от слез. Марго ван Гулип была неподвижна, как статуя. Марина снова положила голову мне на плечо, и я чувствовал, как она дрожит.
В моей голове проносилась вся жизнь, связанная с Роменом. В жизни бывают дни, месяцы, целые бесконечные годы, когда ничего не происходит. А бывают минуты и секунды, которые заключают в себе весь мир. Присутствие Ромена в жизни было таким мощным, что одного воспоминания о нем было достаточно, чтобы самой собой забылось теперешнее его отсутствие. Можно было бы даже сказать, с не столь большой натяжкой, что он сам присутствовал на собственных похоронах, чтобы оживить прошлое в нашей памяти.
Печаль, которая овладела нами, была родом тоже из тех счастливых дней, которые мы провели с ним, и из той его способности, которой он был наделен как никто другой, — делать жизнь праздником, всегда новым… Он знал не так уж много, но знал жизнь. Знание как таковое намного выше «умения жить», но оно — почти ничто перед знанием жизни. Для многих, кто был в этот день рядом с ним — мужчин и женщин, — жизнь станет менее легкой, менее веселой, менее яркой, чем была с ним.
Проскальзывало у собравшихся и другое чувство, и это был явный парадокс: Ромен, который был самой жизнью, теперь своей смертью заставлял нас думать о собственной смерти. Он сам, конечно, отверг бы роль распорядителя похоронного бала. Он предпочел бы, чтобы его смерть стала поводом для праздника — по образу и подобию его жизни. Не получилось: не удавалось нам преодолеть горечь от его ухода без него… Его не было здесь, чтобы утешить нас. Он любил саму жизнь, все в ней построил на этом, и, можно сказать, построил гениально… И вот смерть торжествовала. В эти мгновения на его мертвом лице она была сильнее, чем жизнь…
Читать дальше