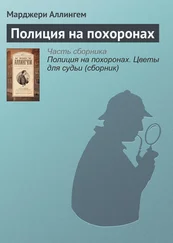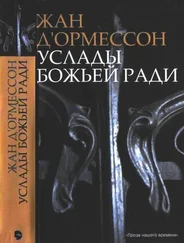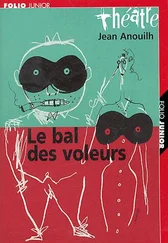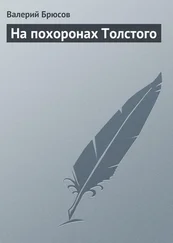— Сейчас? — спросил он.
— Да, сейчас.
— Немедленно?
— Немедленно.
— Могу я взять с собой что-нибудь?
— Туалетные принадлежности. Две рубашки. Самое необходимое.
— Дайте мне три минуты.
— Ладно. Но поторапливайтесь. Нельзя терять время.
В машине, плотно зажатый между этими двумя парнями, упорно молчащими, Мишель прокручивал в памяти всю свою жизнь, а за стеклами автомобиля пробегал летний ночной Париж. Он спрашивал себя, что его ждет. Слово «Дранси» еще редко звучало летом 42-го. Но все знали, что нацисты преследуют евреев. Многие были вынуждены вести подпольную жизнь. Мишель думал о жене и дочери и радовался, что успел отправить их в так называемую «свободную зону», где в это несчастное и гнусное время было все же меньше риска.
Черный «ситроен» переехал на правый берег Сены, проследовал по Елисейским Полям, выехал на площадь Звезды и проехал по обочинам авеню Дюбуа. Выйдя из машины, Мишель, все так же плотно конвоируемый, задавался вопросом, не упоминал ли кто-нибудь при нем гестапо на улице Фош. Его провели на второй этаж по монументальной мраморной лестнице. Позвонили. Дверь открылась. Некая фигура, тоже вся в черном, но не столь застывшая, встретила их на пороге. Беспокойство Мишеля сменилось удивлением, а удивление — ошеломлением.
Он очутился в большой комнате, несколько пустоватой, которую можно было принять за салон. Посередине — большой белый кожаный диван с тремя креслами. Звериные шкуры на полу. На стенах — несколько картин… В углу — богато оснащенный напитками бар. Никаких униформ, никаких папок с документами. Мишель стоял, свесив руки, в ожидании беды, которую не мог не таить в себе этот стерильный светский интерьер…
— Садитесь.
Он сел.
— Чего хотите?
Чего он хотел? Вернуться домой!
— Вернуться домой, — сказал он.
Охранник засмеялся:
— Это, пожалуй, единственное, чего я не могу вам позволить.
— Так я пленник?
— О, это громко сказано. Скажем так: вы здесь на…
— На неопределенный срок?
— Именно: на неопределенный срок.
Наступило молчание.
— Хотите чего-нибудь выпить?
— Стакан воды, — сказал Мишель.
— Может быть, стакан вина? С какой-нибудь закуской?
Он пожал плечами. Это слово «закуска» почему-то заставило его поежиться. Охранник на минуту оставил его одного. Он вернулся почти сразу, толкая перед собой сервировочный столик. На нем была тарелка с маленькими продолговатыми штучками, на которые Мишель воззрился вытаращенными глазами: это были канапе с икрой и лососем. На столике был также стакан и бутылка красного вина. Неосознанно — и это удивило его самого — он бросил взгляд на этикетку, покрытую пылью, — это была «Белая лошадь»…
— Они точно меня расстреляют, — мелькнула мысль.
— Приятного аппетита, — бросил ему охранник.
Мишель попытался различить в этом пожелании, произнесенном тихим голосом, оттенок иронии, благожелательности или издевки. А затем… съел все канапе и выпил три стакана «бордо».
Через полчаса охранник вернулся, попросил Мишеля следовать за ним и отвел его в маленькую, но очень удобную комнатку с прилегающим к ней туалетом; в комнате уже была постелена кровать.
— Вы пробудете здесь некоторое время, — сказал охранник. — Вам будут приносить еду. Но я должен вас закрыть.
Он вышел, и Мишель услышал, как в замочной скважине повернулся ключ.
Он провел там три ночи и два дня. Утром третьего дня охранник появился снова.
— Вы свободны, — сказал он.
Мишель Поляков взял свои вещи и вышел. На лестнице охранник протянул ему конверт. Мишель открыл его на улице: там были тридцать два франка и пятьдесят сантимов…
Вернувшись домой, он узнал, что вооруженные полицейские приходили за ним утром два дня подряд и, не застав его, ушли ни с чем. Это была облава на евреев 16-го и 17-го июля 1942-го года…
Через полтора года Мишель Поляков, ставший участником Сопротивления, попал в западню, на которую так никогда и не удалось пролить свет. Он был арестован гестапо и выслан в Германию, откуда вернулся каким-то чудом, — это было за лет двенадцать до получения Нобелевской премии и за двадцать — до его смерти…
— …Но я все-таки должна была приехать, — говорила мне Франсуаза. — Мишель так любил Ромена…
— Да, мадам, — подтвердил я.
Она посмотрела на меня и положила свою руку на мою.
— Не надо так сильно грустить, — сказала она мне. — Жизнь продолжается…
Я молчал. Я обожаю Швейцеров. И очень люблю Франсуазу.
Читать дальше