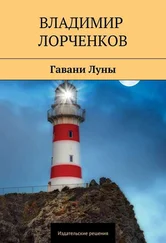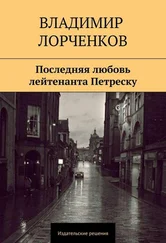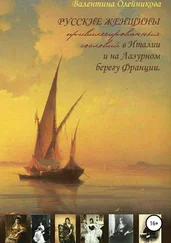Скоро, впрочем, выяснилось, что главного, того, как съезжал Вовка, он не видел, да и вообще редко видел, как съезжают постояльцы, а просто забирал в условленный день ключ из прихожей, обходил — für alle Fälle — комнаты и вызывал горничную. Марья Александровна тихо спросила его, нельзя ли посмотреть дом. Немец, как если бы она в эту самую секунду возникла перед ним, отступил на шаг, смерил удивлённым взглядом её осунувшееся лицо, дрожавший глянцевый снимок в пальцах, строго сказал, что « плакать, скандаль тут — запрет», — и кустистые горьковские усы его надулись, как кроны. Обив тростью подошвы своих охотничьих ботинок, он ушёл. Марья Александровна, не разбирая дороги, двинулась в обратную сторону, к берегу, чуть не оказалась в воде, потом набрела между деревьев на скамью, села и, теребя за угол забытую фотокарточку, глядела в землю. На немца она не обижалась, ей было не до него, лишь где-то внутри, как плевок на солнцепёке, изглаживалось чувство неловкости, какое бывает, если обознаешься или вовсе примешь за человека пятно на стене. Теперь она казнила себя за то, что, пусть и спасительным, секундным принятием измены сына сама предала его. Подойди он сейчас, и что она сказала бы ему? Чем ещё можно было страшней оскорбить Вовку, как не признанием того, что к его отзывчивой душе — «Ты не умрёшь?» — подошёл ключ от приозёрного ларца? Дождь кропил её занемевшие руки, она совсем измочалила край карточки и не смела поднять глаз, оттого что по правую сторону скамьи ей начинал мерещиться каменный памятник сыну и по левую — сам сын у позорного столба. В голове у неё мутилось, она боялась, что стучавшее колоколом сердце её, которого одна половина как бы лежала под камнем, а другая отчаянно хваталась за опозоренного Вовку, не выдержит, в самом деле разорвётся на части, и правда не откроется ей. До темноты, до высыпавших по берегу огней она сидела под дождём и дошла до того, что, никогда не верившая в Бога, стала молить Его о каком-то знаке. Что это мог быть за знак, она не знала и даже не хотела представить и быстро, как и любую заумь, забыла думать о нём. В виду игрушечных приземлённых звёзд, не то звавших в счастье, не то кричавших держаться от него подальше, она снова видела себя телом без органов, полой статуей, закопчённой изнутри.
Однако мольба её была услышана.
На следующее утро, когда она вышла из гостиницы и через квартал встала, не понимая, куда идёт, её окликнули. Моложавая, лет сорока, фройляйн, в егерского вида куртке и такой же чуднóй шапочке с фазаньим пером, нагнала Марью Александровну и вполголоса, на слегка натянутом, но чистом русском спросила, не было ли у её родных кошки. Сначала Марья Александровна подумала, что сходит с ума или ещё не проснулась (она почти не спала, сочиняя предлоги, один другого безумней, чтобы опять явиться к немцу), а потом её словно толкнули в лоб — она вспомнила про Масяню. Из-за вшивого, едва разлепившего глаза трёхцветного котёнка, которого Ромка подобрал в детском саду и до прихода матери прятал за пазухой, три года назад Марья Александровна рассорилась и с невесткой, и с сыном, и даже с самим внуком. Отроду не терпевшая кошек — нелюбовь, как магнит, обросшая железными иглами житейских и научных ссылок, — она до сих пор чувствовала себя всеми преданной ни за грош. Может, они и таскались с Масяней по своим заграницам, оттого что, отдавая должное рассудочной силе этого чувства, боялись оставлять животное в Питере на попечение кого бы то ни было. Даже по полном примирении после стерилизации зверя, когда, бывало, стиснув зубы, Марья Александровна брала серо-буро-малиновое чудовище на руки (на ощупь ни дать ни взять ощипанная курица в пуховой шали), её благодушию не верили, старались, шутя или спохватываясь, восстановить статус-кво, спровадить достояние своего слепого милосердия подальше от греха. И кто бы сказал, что однажды она будет чуть не взмывать над землёй, что тевтонская брусчатка сама полетит под ней при одной мысли о Масяне? На ходу она кивала фройляйн, разглаживала складки на плаще и с лёгкой досадой вспоминала о забытой в номере пудренице. Неожиданно фройляйн задержала её руку. Они остановились в облепленной палыми листьями тени кирхи. Ангел в нише над портиком держал меч с отбитым клинком.
— Вы слышите, что я говорю? — спросила фройляйн.
Марья Александровна, невзирая на то что ещё только спускалась на землю, приходила в себя, с усмешкой покачала головой. Конечно, она слышала. Прозванная учениками Юлием Цезарем за то, что могла разом выслушивать и править лепет домашних заданий ( «Духовной жаждою томим, / В пустыне страшной я влачился…» ), следить за порядком в классе и гасить какую-нибудь отчётную писанину, разве выпустила бы она хоть слово из того, что говорила фройляйн? Продолжая расправлять плащ и посматривать на обезоруженного ангела, она, точно замечтавшаяся, пристыженная школьница, стала наизусть вполголоса пересказывать то, что говорила фройляйн, но, по мере того как из слов складывался вид приозёрной домины — и, главное, то, что было в самом коттедже, к чему её не пропустил «литературный» работодатель фройляйн, — говорила всё тише, пока наконец не умолкла с поднесённой ко рту рукой. Фройляйн пристально, с какой-то задорной злостью глядела на неё и в то же время опасливо постреливала глазами по безлюдной улице. Марья Александровна стояла чуть дыша.
Читать дальше