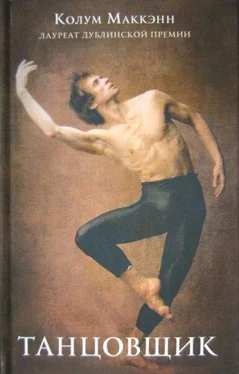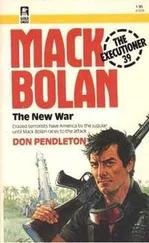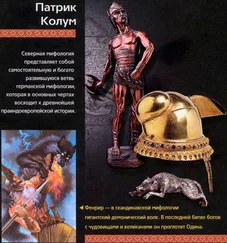Отец открыл дверь и едва не захихикал, увидев меня. Выглядел он на редкость хорошо, хоть и отпустил седые волосы ниже ушей, что придавало ему вид слегка безумный. В костюме и при галстуке с несколькими оставленными супом пятнами. Пуговицы рубашки были застегнуты доверху, но галстук болтался свободно, как будто у него с рубашкой имелись разные планы на день. Одна из заушин очков отломилась, к ней была привязана уходившая за ухо веревочка. Единственным, что по-настоящему говорило о его возрасте, было несколько лопнувших под кожей лица капиллярных сосудов. Но по-моему, и они лишь странно украшали его.
Мы обнялись, и я почувствовала затхловатый залах его волос.
Отец поставил пластинку Бетховена, я села, он захлопотал у крохотной плиты, заваривая чай. На тумбочке у кровати стоял портрет мамы. Отец познакомился с молодым художником, и тот сделал по фотографии рисунок углем. Как верно передал он мамину красоту, подумала я, — теперь кажется, что она всегда была красавицей.
Отец, заметив, что я рассматриваю портрет, сказал:
— Жизнь дана нам для того, чтобы мы останавливали какие-то ее мгновения.
Я кивнула, не очень поняв его слова. Он отпил чаю. Я поколебалась — говорить ли ему о Руди, ведь официально ничего еще объявлено не было, — но все же выпалила:
— Руди в Париже.
— Да, — сказал он, — знаю.
— Откуда?
Отец огляделся вокруг, словно его мог услышать кто-то кроме меня, и сообщил:
— У меня свои источники.
Шаркая, он подошел к буфету, сказал:
— Это стоит отпраздновать, тебе не кажется? Я все еще не отпраздновал.
— По-моему, не стоит.
— Почему же?
— Ему вынесут смертный приговор.
— И что они сделают? — спросил отец. — Пошлют в Париж расстрельную команду?
— Все может быть.
Мои слова отрезвили его. Он пошевелил губами, словно пробуя на вкус какую-то пришедшую ему в голову мысль.
— Все мы приговорены к смерти, — наконец сказал он, — через сколько-то лет. Но по крайней мере, он проживет их лучше нас!
— Ох, папа.
— Он всегда был хитрющим тараканчиком, верно?
— Да, пожалуй.
Отец достал из буфета запыленную бутылку водки, театрально откупорил ее и для полноты картины перебросил через руку белую тряпицу.
— За хитрющего тараканчика Рудольфа Хаметовича Нуриева! — провозгласил он, высоко подняв рюмку.
Мы приготовили под угольным взглядом мамы нехитрый ужин. Отец, вспоминая о ее мариинских днях, сказал, что ей не дали развернуться, что она могла стать одной из величайших балерин, — он знал, что это неправда, но неправда приятная, согревавшая нас обоих.
Я постелила себе на кушетке.
И уже почти заснула, когда он произнес:
— Его отец…
— Что?
— Я подумал о его несчастном отце.
— Ложись спать.
— Ха! — ответил он. — Спать!
Немного позже я услышала, как он усаживается с книгой за стол, как перелистывает ее. Потом по бумаге заскрипело перо, и под этот звук я заснула.
Ушел он рано утром, и это меня обеспокоило. Чтобы чем-то занять время, я вытерла в комнате пыль и вымела сор из углов.
На столе обнаружился под стопкой поэтических сборников дневник. Я пролистала его. На первой странице отец записал дату маминой смерти. Бумага была дешевая, чернила пропитывали ее, марая следующую страницу. Почерк у него был неровный, неразборчивый. Я подумала: «Это жизнь моего отца», заставила себя не читать написанное им и снова взялась протирать то, что уже протерла. Росшие в горшках цветы засохли, я отнесла их в общую ванну, опустила на пару сантиметров в воду — вдруг оживут.
В ванную комнату вошла старуха-соседка, постояла, наблюдая за мной, — молча. Женщиной она была грузной, но годы уже лишили ее прежней силы. Она спросила, кто я, а услышав ответ, фыркнула и ушла к себе.
Я посидела на краю ванны. В стоке застряли волосы, не отцовские — волосы молодого человека, темные, еще живые. Мне показалось оскорбительным, что отцу приходится мыться в ванне, которой пользуется кто-то еще.
Все это время мысль о дневнике словно дырку в моей голове прожигала. Вернувшись по коридору в его комнату, я села за стол, провела пальцем по черной обложке дневника и открыла его наугад, примерно в трети от начала.
И все-таки правда состоит в том — хоть я никогда и не верил в Бога, а это и само по себе не делает меня достойным гражданином, — что, возможно, в самом конце я полюблю его, если он и вправду существует. Большую часть моей жизни я провел, не живя в сколько-нибудь подлинном смысле этого слова, а все больше выживая день за днем, гадая, когда ложился спать: «Что-то случится завтра?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу