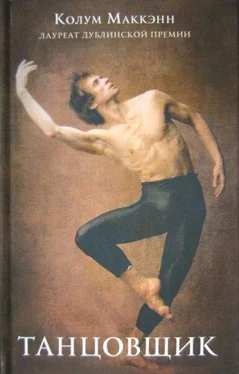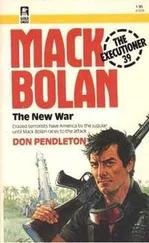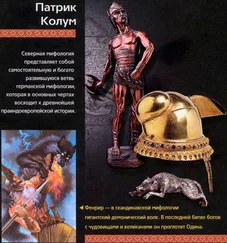Когда я открыла глаза, Иосиф вытирал со щеки пот. А вернувшись к столу, сказал:
— Не забывай, тебе еще вещи укладывать.
Если бы я могла сложить в картонные коробки все глупости, какие понаделала в жизни, получился бы хороший памятник ей, — но я складывала вещи.
И через неделю оказалась в спальном районе Ленинграда, оставив мою любимую Фонтанку в прошлом. Новая квартира была большой и темной. С горячей водой, телефоном, плитой, холодильничком. За дверью ее скрежетал лифт. Я ждала, когда тоненько засвистит чайник. И уже пообещала себе, что скоро уйду отсюда, раздобуду достаточно денег, уплачу пошлины, подам заявление о разводе и примусь за решение огромной задачи ― за поиски нового жилья. Но по правде сказать, я знала, что уступила Иосифу, что, отдаваясь ему, лишь усиливаю его безразличие ко мне.
Полгода спустя я сидела на восьмом этаже нашего нового дома, тщетно пытаясь перевести кубинское стихотворение о тайне и тени, и тут в дверь квартиры постучала моя подруга Лариса, приехавшая в нашу даль трамваем. Лицо у нее было серое. Она взяла меня за руку, отвела на футбольное поле за домами и там прошептала:
— Прошел слушок.
— О чем?
— Руди остался там.
— Что?
— Говорят, он сбежал в Париже.
Мы зашли в футбольные ворота, остановились, молча глядя одна на другую. Я начала припоминать мгновения, которые могли выглядеть ключевыми. Как в первую его неделю здесь я часто видела Руди смотревшимся в зеркало, словно старающимся усилием волн вселиться в чье-то еще тело. Как он рассказывал о зарубежных танцовщиках, как слушал пение Розы-Марии, рылся в моих книгах. Как при всяком посещении Эрмитажа его притягивали итальянское Возрождение и голландские мастера. Как, сидя за столом с моими друзьями, он вечно выглядел оголодавшим, готовым ухватиться за любое новое слово, любую мысль. И я почувствовала огромную вину и страх.
— В Париже? — переспросила я.
— Нам лучше помалкивать об этом, — сказала Лариса.
В тот вечер я сидела с Иосифом и прислушивалась к скрипу лифтовых блоков за дверью. Когда лифт останавливался на нашем этаже, у меня появлялась неотвязное предчувствие, что сейчас они постучатся к нам. Я уже упаковала в сумку вещи, которые могли, по моим понятиям, мне понадобиться. В том числе и роман Горького с подклеенными изнутри матерчатой обложки деньгами. Сумку я поставила под кровать, и ночью мне приснилось, что меня приковали цепью к столу.
Иосиф сказал:
— Мелкий выродок, как он посмел?
Потом встал и прошелся по комнате, шепча:
— Как он посмел?
И взглянул мне в глаза:
— Как посмел, мать его?
А назавтра удивил меня, сказав, что бояться нечего, я ничего плохого не сделала, у него есть связи, он позаботится, чтобы меня не тронули. Я погладила ему рубашку, в которой он собирался выступать на конференции, Иосиф собрал портфель, сказал, что все обойдется. Потом быстро чмокнул меня в щеку и ушел в университет.
Но они все равно пришли — утром следующего понедельника.
Когда в дверь постучали, я была в доме одна. Я мигом засунула деньги под стельки моих туфель и даже булку положила в карман домашнего халата. Дрожа, подошла к двери. Мужчина был вполне традиционным — пронзительный взгляд, серый плащ, — зато женщина оказалась молодой и красивой, со светлыми волосами и зелеными глазами.
Они вошли, не представившись, уселись за стол. В голову мою закралась мысль, что Иосиф мог отправиться к ним, чтобы обезопасить себя, что теперь он предал меня по-настоящему — после всех наших накопившихся за годы мелких интимных измен.
Я спросила:
— Вы меня арестуете?
Они не ответили. Я не сомневалась, что сейчас меня поведут из квартиры. Они вытащили из моей пачки по сигарете, закурили, пуская дым в потолок. Роли свои оба освоили в совершенстве. Посыпались вопросы: давно ли я знакома с Руди, говорил ли он когда-либо о Западе, кому говорил, почему предал свой народ.
— Вам известно, гражданка, что он терпит провал за провалом?
— Мне ничего не известно.
— Жалкие провалы.
— Правда?
— Парижская публика бросает ему на сцену битое стекло.
— Стекло? — переспросила я.
— Хочет, чтобы он распорол ноги.
— Почему?
— Потому что танцор он, разумеется, никчемный.
— Разумеется.
Я задумалась о том, как Руди выступает в Париже, ведь его и вправду могли освистать или сослать в кордебалет. Может быть, французы отвергли сценический стиль Руди, — нетрудно себе представить, что он и в самом деле провалился. Что ни говори, а он так молод, двадцать три года, да и танцует всего несколько лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу