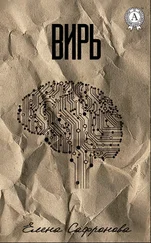— К вашим услугам, мадам. Как можно быть такой непонятливой, чтобы связаться с гением… ну ладно, этот эпитет ко мне станет применим в будущем, лет через пятьдесят, пока — просто поэт высочайшего класса… И не догадываться об этом… и пренебрегать моим предложением заняться наконец тем делом, в котором тебе нет равных… я таковых еще не встречал… Дай губы…
— Паша, но зачем же ты со мной, если я такая тупая?
— Ты трахаться умеешь хорошо. Отлично умеешь, сердце! Я сейчас сгорю от желания, пока ты умничаешь, вместо того чтобы отдаться процессу…
Подозреваю, что он ценил во мне также бытовые удобства. Приходя на поздний ужин, Павел Грибов не интересовался, откуда в тарелке, подставленной ему под нос, появляется еда, и сыта ли хозяйка. Плейбой, истово презиравший журналистику, не гнушался водкой, купленной на деньги с запахом типографской краски. И в долг не стеснялся попросить у меня, безотказной. Эвфемизм «в долг» означал спонсорскую помощь. Мотивировал займы Грибов безыскусно и трогательно, как Карлсон, отнимающий у Малыша банку с вареньем:
— Мне больше не у кого занять, сердце!
И я… вынимала купюры из тощего кошелька либо из бурундучьих тайничков, раскиданных по всей сухаревской коммуналке. Глупо — хотелось сделать ему добро, чтобы он полюбил меня сильнее! Но отношения склеивались по иной схеме — кособоко, в точности по стихам Константина Багрянцева, не тем будь помянут: «То любовь, то беготня, то покой, то нервы…». Пашка раз перенес меня через лужу на руках, поцеловал взасос, поставил, как канделябр, сказал: «Сердце, извини, мне пора, увидимся!» — хотя три минуты назад и речи о прощании не было — и рванул через Садовое кольцо поверху, бывалый москвич!
Так и строился между нами роман. А я со своей цепкой памятью, зорким глазом и терпением воина-степняка выжидала, как в засаде, что еще выкинет житель ноосферы Павел Грибов.
О! за этим дело не стало!
Раз Павел Грибов пропал без видимых причин — не ссорились, не спорили о русской культуре, не квасили вместе до беспамятства, чреватого вопросами «А что вчера было?» и неприятными откровениями. Пропал просто — утром простился со мной жадным поцелуем и возгласом «До вечера, сердце!», сбежал по лестнице, торопясь на раннюю встречу с каким-то приятелем, не пришел и не позвонил. В тот вечер я тревожилась за любовника чуть ли не больше, чем за дочь.
Самолюбие не позволило мне звонить по мобильным Пашкиных друзей, а его телефона я не знала (!). Компромисс, на который оно, скрипнув, согласилось — на третий день после пропажи любовника прийти вечером в «Перадор», угнездиться за своим столиком и послушать разговоры вокруг. Вдруг да выяснится, что Павел Грибов отбыл в загранкомандировку (ушел в запой, постригся в монахи, скоропостижно женился, попал в тюрьму за распространение наркотиков, тьфу, тьфу, что я несу!).
Публика подобралась — как нарочно, сплошь незнакомые физиономии. Мир — бардак, люди — его сотрудники, кабачок дерьмовый, кухня плебейская, спиртное паленое… Я вяло выпила порцию пива, ощущая себя засланным казачком, которого не туда заслали. Пиво не доставило желанного расслабления. Вдобавок на сотовый позвонила Ленка — сама набрала номер, бабушка только ее за руку держала! — и стала канючить: «Пиезжай! Сича-ас пиезжай!». От сочетания всех этих факторов я — брошенная Пашкой, бросившая Ленку! — точила слезы в полную пепельницу и самозабвенно жалела себя. Даже словила за хвост мрачное мазохистское удовольствие «Вот я умру, а вы все заплачете и поймете!».
Но умереть мне помешал русский примитивист Василий Сохатый (подлинная фамилия!).
— Инна, ты?! — негаданно удивился он.
— Разве я так изменилась с воскресенья? — ответила я.
И Васька, приземлившись за мой столик, завел бодягу: отчего я грустная, не болит ли у меня где, не купить ли мне пива, раз уж я с Пашкой поссорилась…
Чудо прозорливости пришлось мне не по вкусу.
— Кроме Павла Грибова, в мире нет людей?
— Чего? — оторопел Василий.
— Раз я плачу, то другой причины, кроме Пашки, не может быть? Нет других людей, из-за кого мне переживать?
— Да я думал… — стушевался примитивист. Он был славным, простым и добрым парнем, очень похожим на то животное, фамилию которого носил, и даже послушничество в ордене русской наивной поэзии не испортило его бесхитростную натуру.
— Индюк, — говорю, — тоже думал. С чего ты взял, что мы поссорились?
— Да я, Ин… Пашку сегодня видел, он ничего такого не сказал… Только он пошел к Сотскому, а ты, гля, здесь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу