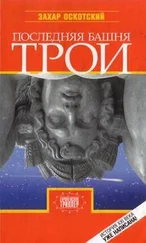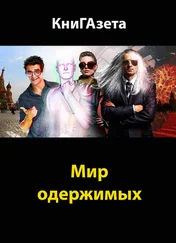Оба некоторое время молчали.
Виталий Сергеевич зашарил в темноте лапищей по пластиковой стенке, щелкнул выключателем — и мертвенный сине-белый свет резко залил купе. Темная глыбистая фигура Байкова от светового удара мгновенно уменьшилась. Он улыбнулся, стал похож на себя обычного.
— А что — Андропов? — сказал он. — Честный, конечно, честный. Ну и что? Да будь он хоть самый благороднейший, гениальный, добрей Дед-Мороза и пытайся изо всех сил к лучшему нас повернуть, думаете, у него хоть что-то иное может получиться, если уж мы ТАКИЕ? Да только то же самое! Только и будет нас дальше разделять, разделять. Крошить народ, как тело живое, на кусочки. И уж ни от какой премудрости, ни от живой воды, ни от мертвой кусочки те не срастутся… Может быть, вправду только на инстинкт самосохранения нам и надеяться, на утробный, всеобщий инстинкт живого? Может, хоть он взбунтуется и не позволит нас до последнего друг от друга рассечь? Если уж разум наш так слаб. А?..
Он помолчал. И вдруг вскинул голову, щелкнул по пустой бутылке:
— Ну что, разбудим товарища начальника, попросим вторую?
— Не стоит, Виталий Сергеевич, хватит.
— Ну, хватит так хватит!
Яркие пятна света от вагонных окон неровной очередью летели по снежной земле рядом с поездом. Подскакивали на буграх, мгновенно пригасали на сплетениях ветвей, тянущихся к насыпи.
Виталий Сергеевич двузубой откидной вилочкой перочинного ножа подчищал в консервной банке остатки ставриды. Облизывал томатные капли, усмехался. Но у Григорьева от его рассказа было всё еще тоскливо на душе.
Хотя что-то хорошее, мелькнувшее в разговоре и сразу же заслоненное, прорастало в памяти. Что-то спокойное, обнадеживающее. «Зимний скорый», — вспомнил Григорьев. Ай да Виталий Сергеевич! И как удивителен наш язык. Сталкиваются два обыкновеннейших слова — и рождается звучание неожиданное и такое естественное, словно глубинный расходящийся аккорд в потоке. Слышится в нем и обреченность человеческих капелек, и стремительность и вечность общего их течения. Того, что пронесется невозмутимо даже сквозь эпоху пусковых кнопок, атомных ракет, угарной ненависти, всего людского безумия. «Зимний скорый»…
— Значит, как пчелки трудятся и любимого начальника ждут? — переспросил Виталий Сергеевич.
— Так точно! — ответил Григорьев.
— Ну, так пусть для большего трудового возбуждения еще денек подождут! — решил Байков. — Могли же керосин на несколько часов позже подвезти? Мог же я завтра утром прилететь, а?
— Конечно, Виталий Сергеевич!
— Нет, в самом деле, измочалился за сутки. В аэропорту этом, в «Кольцово» — битком. Дремал на ногах, как петух на жердочке. Должен же я помыться-отоспаться?
— Совершенно верно!
— Так что, послезавтра на работу и выйду, со свежей силой, — он крутнул тяжелой головой от Григорьева к Але и обратно к Григорьеву, сделал таинственное лицо, сказал громким шепотом: — А вы меня не видели!
Григорьев отшатнулся от него и заслонился ладонью.
— Вот именно! — подытожил Виталий Сергеевич. Он сделал короткое бодающее движение к Григорьеву: — Счастливого пути! — Падающий поклон в сторону Али: — Надеюсь продолжить знакомство! В легальной, как говорится, обстановке!
Тяжко топая, скатился по лестнице, и уже снизу, издалека, зрительно приплюснутый, похожий теперь не на Чипполино, а на пузатый белый грибок с маленькой темной шляпкой, перед самой посадкой в автобус вскинулся к ним и еще раз помахал рукой…
В апреле 1968-го, вечером, он был дома один. Нина, как всегда, осталась после занятий на кафедре. Ему в ту ночь не надо было идти на хлебозавод, они могли бы провести вечер вместе, но он уже и не просил об этом. Знал: если попросит, она виновато улыбнется и объяснит, что получает сейчас очень важное вещество, процесс многодневный, надо сидеть возле установки и следить за температурой, давлением, перемешиванием. Она не может просто так позволить себе вечер отдыха, всё пропадет, придется начинать сначала. И он знал, что она не обманывает: ей поручают уже серьезную работу из тематики кафедры. Конечно, ему не по себе оттого, что она поздно возвращается домой. Но что тут сделаешь? Остается только по-прежнему сдерживать себя, чтобы не оказаться смешным.
Звонки в дверь раздались неожиданно: «Дзынь — дзынь — дзыннь!..» Кто-то, дурачась, нажимал и нажимал кнопку, словно сигналил морзянкой.
Григорьев в ярости распахнул дверь, ожидая увидеть хулиганящих мальчишек, да так и обмер: с лестничной площадки к нему шагнул… Димка! Похудевший, смуглый, — не то успел загореть по весеннему времени, не то просто выдублен на воздухе, — сияющий, оскаливший в улыбке свои белые клыки. За ним тихонько, как тень, — Марик. Тоже улыбающийся, но почему-то с грустными глазами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

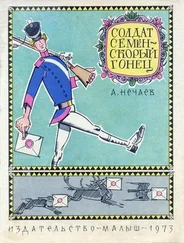



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)