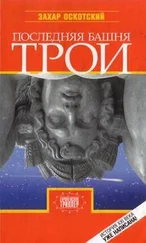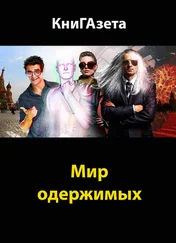Он мгновенно понял, что это она. Именно понял, а не узнал, — у понурой женщины в платке было другое, состарившееся лицо. Она чуть улыбнулась ему в ответ, сочувственно, печально. И только в этой улыбке проступило до нежности знакомое, словно выдавилась капелька из прошлого.
Сердце у него бухало так, что, казалось, могут заметить. Всё связалось вместе и слишком — похороны, мать Димки, Стелла. Конечно, она не могла не приехать. Стелла!.. Сколько же времени прошло? С того августа шестьдесят пятого? Почти девять лет. Ей сейчас тридцать четыре. Нет, еще тридцать три. У нее дочка старше Алёнки. Господи, Стелла!..
Не то был подан знак, не то подошло время, но Димка вдруг повернулся и медленно пошел к дверям. Вслед ему двинулись Марик, Стелла, старушки. Григорьев зашагал за ними. Один из парней быстро спросил Димку: «Мы пока не нужны?» — (Димка сделал отстраняющий жест.) — «Ну, тогда еще здесь покурим».
Теперь Григорьев догадался, кто они такие. Димка взял их с работы, чтобы помогли нести гроб. Вместе с Мариком и Григорьевым будет как раз шестеро. А самому Димке по обычаю, кажется, нельзя.
Спустились гуськом по темной лестнице, протискиваясь мимо всходивших навстречу людей. Он почувствовал, как Марик впереди него снимает шапку. Спохватился, стащил свою. И — как глубинным давлением — их втиснуло в слабо освещенный подвал, наполненный неестественным ЗАПАХОМ. Несильный, неприятно сладковатый, он проникал не только в легкие, но, кажется, сквозь кожу, отравляя кровь.
Потом пришло зрение. Под тусклыми лампами на деревянных скамьях лежали непохожие на людей восковые глянцевитые куклы с закрытыми глазами и плотно слепленными ртами. У всех пугающе, точно наклеенные, торчали огромные брови. А среди скамей, в тесноте подвала, непрерывно двигались, задевая друг друга, настоящие люди. Слышались их частые шажки по цементному полу, шорох трущейся одежды, всхлипывания.
Неужели, это и есть — смерть? Вот это — кукольное, искусственное? И этот запах, вызывающий оскорбительное ощущение нечистоты?..
Он ухватил за рукав Марика, его вдавило вслед за ним между скамьями, и они очутились над одной из кукол, лежавшей в фанерном гробу, обклеенном синей, кой-где отодравшейся бумагой. По другую сторону скамьи стоял и смотрел вниз каменный Димка. Старушки с ним рядом склонились, шепотом заплакали: «Шура, Шура…» Маленькая женщина, бывшая когда-то Стеллой, прикладывала платочек к глазам.
Он не хотел смотреть, но, даже отводя глаза, видел восковое с пугающими бровями лицо в изголовье, скрещенные кисти рук, и ниже — бестелесную пустоту, прикрытую голубоватой материей. Там, где должны были находиться ноги куклы, между матерчатым свертком и фанерной стенкой гроба, торчал коричневый бланк квитанции, вроде тех, на которых в прачечной записывают белье. Печатные строчки бланка были неразборчивы. Выделялась лишь надпись, размашисто сделанная под копирку: фамилия — Перевозчиков, а ниже — столбики цифр, похоже, расчет рублей и копеек. Сперва он не понял, почему фамилия Александры Петровны написана в мужском роде. И вдруг догадался: квитанция выписана на Димку. По этой квитанции Димка должен получить мать, как получают вещь.
Люди в подвале двигались, протискивались, задевали их скамью. А в нем опять ощутились два человека. Внешний, большой, вел себя так, как положено внешнему: стоял, уронив руки и сжав шапку, с хмурым лицом. А второй, огненное ядрышко, фокус линзы, что жег краешек мозга, стягивал в себя энергию боли. Он чувствовал, как Марик, прижатый к его плечу, слился с ним в напряжении, и словно по общим нервам перетекает в них жалость к Димке и оскорбленность мерзким подвалом. А то, что чувствовали Димка, Стелла и — дальше, дальше, с внешних кругов, — то, что чувствовали все эти движущиеся с мышиным шуршанием молчаливые, шепчущиеся, всхлипывающие люди, — сходилось в него со всех сторон болевым током. Кружилась голова, он словно всплывал в дурнотной невесомости.
Потом был автобус-катафалк, старенький, помятый, не раз перекрашенный. Григорьев помнил, как в конце шестидесятых эти похоронные фургоны стали вдруг заметны в городе: для них ввели белую эмалевую окраску и по обводу рисовали красно-черную полосу, как бы перевитую дурацким бантом на одном боку. Так и проносились по Ленинграду пугающими кометами, издалека видные, вызывая у них, тогдашних студентов, остроты и смешки. В конце концов, до кого-то из похоронных начальников «дошло», нарисованные банты исчезли, осталась ровная красно-черная полоса. Потом пропала и она, да вместо блестящей белой эмали покрыли кузова серой краской. И стали — обыкновенные служебные автобусы, неразличимые, как невидимки, в потоках машин.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

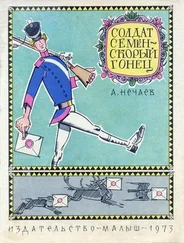



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)