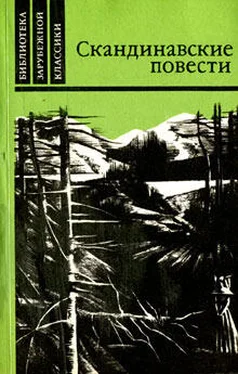Она ушла, а он все стоял, глядя на следы, оставшиеся на снегу от железных подковок ее башмаков. Следы эти походили на крошечные лошадиные подковки, точно следы молодой кобылицы. Легка, как шаг молодой кобылки, была поступь Мэрит. Он продолжал колоть неподатливые березовые поленья, но делал это больше для видимости, чтобы скрыть, что он все еще прижимает к себе Мэрит. Он и впрямь все еще ощущал ее тело в своих руках, хотя сама она давно скрылась из виду.
Отчего он не удержал ее? Отчего не приблизил свои губы к ее губам? Было у него такое помышление. Если бы он согнул свою крепкую руку и стал приближать ее тело к себе, медленно, медленно, до тех пор, пока не перестал бы видеть ее рот и отыскал бы его губами… Что бы она тогда сделала? Быть может, загорелась бы гневом и отвесила бы ему оплеуху? А может, побежала бы домой к мужу с криком: «Хокан Ингельссон — насильник! Вовсе стыд потерял, к замужней женщине пристает!» И, наконец, она могла бы уступить и податливо прижаться к нему, повинуясь его руке. Нет, этого бы она не сделала. Мэрит не из таких. Она женщина строгих правил и сочла бы его выходку легкомысленной блажью. Не могла бы она вот так сразу поступиться своей женской честью.
Он наверняка нажил бы в ней врага, но, может, — :оно и к лучшему было бы — тогда ему волей-неволей пришлось бы держаться подальше от ее дома.
А старый Герман дивится, что он не делит постель с Элин. Дядя — уже дряхлый, бессильный козел, которому теперь и не обнюхать молодую козочку.
В глазах старика появился масленый блеск. Только то и есть упущение в жизни, что ей приходит конец. А так — жизнь хороша, и человеку надо пользоваться ее утехами, пока можно. А иначе — для чего ж тогда и жить? Много ходит по земле молодых пригожих женок — зря, что ли, они на свет народились? Для того ли породили их в муках матери, кровью и потом взрастили отцы, чтобы любоваться на них, как на картину писаную? Для того ли даны им ладные налитые тела, чтобы оставаться нетронутыми? Для того ли дано им лоно, чтобы они сидели в праздном ожидании и плотском томлении? Нет, мужчины и женщины народились на свет для того, чтобы дарить друг другу радость своим телом. А они бегут друг от друга только потому, что пастор им преисподней грозит. Как много плотских желаний всякий день попусту пропадает! Что тут хорошего? Большим олухом был тот, кто первый стал это проповедовать.
— Легко вам живется, дядя, вы ни в чем не раскаиваетесь.
Пальцы Германа теребят заросшую щетиной щеку: только одного ему жаль — что богатства не хватило на весь его век. У других так веку не хватает на все богатство. Но, пожалуй, везучий все же тот, чей век дольше.
— А уж это кому как живется, — замечает Хокан.
Сам он по утрам встает с постели мрачнее тучи. Надо начинать новый день, а дни ему в тягость, как мучительная и долгая болезнь. Ни к чему у него душа не лежит. Он рад, когда солнце заходит, но скоро, видно, ему будет все едино — есть солнце на небе или нет. Может, тут дело в тайном желании, с которым ему постоянно приходится вести борьбу? Все напасти, которые он прежде терпеливо сносил, теперь двойной тяжестью ложатся на сердце.
Взять хоть бы этот долг за землю. Неужто он родился на свет только для того, чтобы подати да долги платить? Тем, кому его деньги достаются, хорошо. А ему что за радость от такой жизни? Ну, выпутается он каким-то чудом из беды нынешний год. Все равно, та же забота будет сокрушать его и через год и через много лет. Подати и налоги точно тиски сжимают горло и не дают свободно вздохнуть.
Но зачем позволяет он себя неволить? Зачем обрабатывает землю, которой сам не хозяин? Нет, такая жизнь не по нем, и он не собирается влачить ее до старости, пока его за порог не вышвырнут.
— Слыхали вы про Ингеля Силача? — спрашивает Хокан старика. — Того, что в лес ушел?
Герман кивает с таким усердием, что у него едва не отваливается голова. Хокан ведет речь о давнем их предке, основателе их рода. Предания о нем до сих пор живы в народе. Герман слышал про него от своего деда. Ингель Силач был человек строптивый и горячий и никакой власти над собой не терпел — рассказывал дед. И по вере он был истинный язычник. У него были свои боги — солнце, гроза, злаки. И он отказался платить церковную десятину пастору, который твердил ему об ином боге. Он бунтовал против пастора и ленсмана, против духовной и мирской власти. И в деревне все было не по нем. Не отдали за него девушку, которой он домогался. Ее родители сочли, что он нечестив и нравом буен. Тогда он бросил свою усадьбу, ушел в лес и девушку с собою увел — выкрал ее у родителей. Но пошла она за ним по своей воле, он ее не принуждал.
Читать дальше