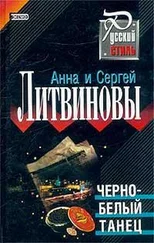— «Не вечный для времен, я вечен для себя… // Я не для них бренчу незвонкими струнами…»
— Тоже Руми?
— Баратынский.
Нога под алкогольной анестезией не болела, я похромал к метро.
— До свидания, Юрочка!..
Я обернулся: Сура из окна махала мне рукой. «Таджиков» я читал до утра, как «Тысячу и одну ночь», пропуская лишь марксистско-ленинские выводы о смене исторических формаций.
Под утро приснился мне сон: я в раю на ковре под яблоней-китайкой, земля усыпана падалицей, источающей винный дух, — всё, как осенью на даче. Вокруг восточные красавицы в прозрачных шальварах… Журчит ручей… Звучат любимые стихи Сельвинского:
Кружатся листья звено за звеном,
Черные листья с бронзою в теле.
Осень. Жаворонки улетели.
Битые яблоки пахнут вином…
Но почему-то рай трещал… И я проснулся.
Трещал не рай: горел под моим низким первоэтажным окном огромный деревянный ящик, куда ремонтеры, меняющие в доме лифты, бросали изработанные детали и промасленную ветошь. Накануне я тщетно просил работяг не придвигать ящик близко к окну, даже грозил красным удостоверением с золотым тиснением «ПРЕССА».
Огонь захватил оконный переплет. Сполохи пожара носились по потолку, стенам… Я схватил таз, в котором мокли трусы-носки… С хрустом лопнуло стекло — огонь лизнул комнату. Я, забыв про халат, голый, бился с огнем изнутри, не успевая вызвать помощь. Но спасители приехали, распустили рукава… Комната пришла в упадок: паркет вспучивался на глазах, побуревшая тахта хлюпала… А послезавтра приезжает жена.
Утром пришел председатель ЖСК, принес картонную упаковку от телевизора — забить погубленное окно, уныло посоветовал подать на ремонтеров в суд. Я забил окно и сел думать, как жить дальше. Позвонил товарищу. Умному. Товарищ сказал, что я дурак: надо было не пожар тушить, а последовательно тягать ящик с огнем под другие окна, чтобы погорело малёк и во второй комнате, и на кухне. В суд жаловаться не надо — волына может длиться годами. Надо лифтарей пугануть. По-умному. Кстати, где Олька?
— В Риме… Надо вешаться…
— Рано… Где говоришь, в Ри-име?.. Это хорошо-о… Значит, так! Лифтари будут крутить яйца: мол, не по их вине, дворники виноваты и так далее. Не перечь, кивай — претензий нет. Вот только жена… От нее, мол, сам Папа Римский воет, она ему житья не дает: каждый год ездиет — он от нее уже прячется… Э-эх! Под другие окна огнище надо было таскать…
Возник начальник по лифтам, пожилой, солидный: виноваты дворники. Я запахнул обхезанный халат и, опустив голову, послушно соглашался: конечно — дворники. Предложил кофе. Он утешал меня, наставлял по будущему ремонту. Компенсацией не пахло. Я удрученно молчал, а напоследок тихо, как бы невзначай, произнес сокровенные слова умного товарища про жену и Папу Римского…
— … А так она женщина… положительная, — неуверенно закончил я, — даже, можно сказать, хорошая.
Бред был услышан.
Двое суток турецкие работяги в роскошных оранжевых комбинезонах курочили сталинскую метровую стену — вставляли бесшумное окно, сушили ветродуем нутро, меняли, циклевали, покрывали многажды моментальным суперлаком паркет, клеили обои. И в последнюю ночь перед женой две уборщицы довели квартиру до ума, перемыв всё: книги, лампы, пузырьки-флакончики, кольца, бусы…
…Ислам раздражал Бободжана оголтелой исступленностью, зашоренностью, а популярность Корана он относил во многом на счет благозвучия арабского языка. И вообще считал, что Мухаммад сочинял Коран по мере бытовой надобности, а выдавал за поэтапные откровения Всевышнего. А более всего Бободжан злился, что в раю ему за все труды праведные предлагаются сорок девственниц и «реки вина, упоительного по вкусу» (47. 16). Он ни того, ни другого не жаловал, у него были другие преференции.
Далась Востоку эта девственность! Помню, на смотрины моей жены мама пригласила двух подруг — литературных дам — и известного азербайджанского писателя, человека интеллигентного и современного. Он по-светски ухаживал за моей невестой — редактором «Совписа», развлекая рассказами о Швеции, откуда только что вернулся, а когда мы с ним курили на кухне, понизив голос, строго спросил: «Она девушка?»
…За атеизм Бободжана пострадал я: на его 90-летии в 1998 году руководство Таджикистана во главе с президентом пало на колени в молитве, я остался стоять, и в результате — на кладбище меня везла «Чайка», обратно — ржавые «Жигули».
В 51-м меня за карточную игру на чердаке МГУ из университета выгнали, и доучивался я в Сталинабаде. Стал работать в издательстве. Поступил в аспирантуру — занимался восточными именами. Потом мне все опротивело, я уволился, пропил расчетные деньги и готов был влиться в невеселую братию безвозвратных алкоголиков. Но Господь меня спас — я попал на телевидение, где работала журналисткой восхитительная девушка с каштановой косой — Сура. Мы вместе с ней пили кислое вино в ларьках, я читал ей стихи, порол чепуху. Получилась любовь. Я изменил преферансу, в котором жил. Выяснилось, что Сурочка, мало того что красавица, еще и еврейка в придачу. Меня забавляло ее имя Сура — так называются главы в Коране, отнюдь не в еврейском литпамятнике. Тогда я Коран по традиции чтил, и имя Сура мне было приятно вдвойне. В моем переводе Коран разбит на «главы» не из чувства протеста, а для удобства русскому глазу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу